
Повесть шестая. ...И тогда возникла мысль
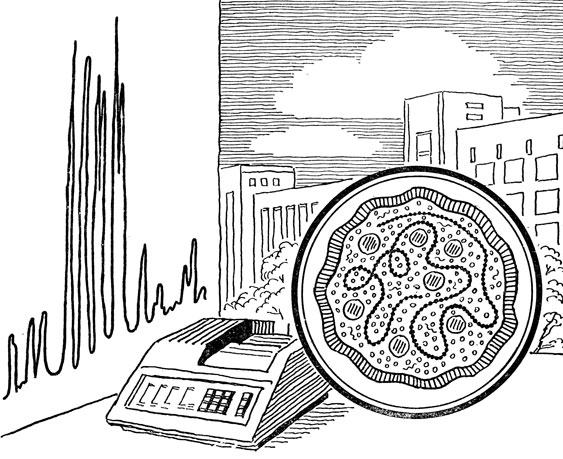
И тогда возникла мысль
С чего бы начать?
Давайте - с того, как в 1966 году по приглашению новосибирских цитологов, генетиков и биохимиков к ним в Академгородок приехал в гости из Ливерпуля профессор Родерик Грегори. Ему перед тем удалось - тогда это еще удавалось сравнительно редко - извлечь из смеси сотен клеточных белков один: уже известный нам гормон гастрин. И в чистейшем виде!
Грегори сделал и большее - расшифровал первичную структуру этого гормона, то есть последовательность, в какой располагаются семнадцать аминокислот, составляющих его небольшую и на взгляд биохимиков довольно красивую молекулу, и при сем обнаружил, что способностью вызывать секрецию соляной кислоты в ней обладает лишь группа из пяти аминокислот, расположенная на одном ее конце. Все остальное в ней служит для иных дел - для узнавания "своей" клетки, для встраивания в ее мембрану и для прочего. Это только нас интересует одно: чтобы гормон вызвал секрецию, а у него еще много и других забот.
Было совершенно естественным тут же приняться за синтез и той короткой активной "пятерки", и полного длинного белка. Грегори получил синтетический гормон и синтетический "пентагастрин", по активности не уступающий гормону. А это для середины шестидесятых годов было еще весьма неординарным делом. Создателя синтетического гастрина отовсюду приглашали читать доклады о работе. Он не отказывался. И в Новосибирском институте Грегори появился в сиянии биохимической славы, впрочем, не помешавшей ему остаться самим собой - очень милым, интеллигентным, открытым человеком.
Но никто из новосибирских слушателей его доклада не мог воспринять финал истории гастрина, а тем более сами факты, полученные Грегори, с такой остротой, как Рудольф Иосифович Салганик, который заведует в том институте лабораторией молекулярной генетики.
У Салганика были на это две причины.
1
Начнем с причины профессиональной. Есть афоризм: "Наука - сначала игра, а потом - навязчивая идея". Среди навязчивых идей Рудольфа Иосифовича уже несколько лет была "генетическая индукция" -буквально "побуждение", то есть регулирование работы генов. А работа их выражается всегда в синтезе белков, в этих генах запрограммированных. Ведь познать жизнь клетки - это по-нынешнему значит разобраться в массе химических реакций, из коих слагается усвоение ею молекулярного и ионного материала, его преобразование в новые вещества, их использование и выбрасывание. А все эти реакции с невероятной быстротой ведут ферменты - ферментные белки, биологические катализаторы.
Они формируют структуры клетки и сами служат деталями этих структур. Они разрушают, вернее, разбирают по необходимости друг друга "на составные множители" и созидают вновь. Разрезают на миг и сразу сшивают. И они же ухватывают для всех этих дел энергию, переправляют ее, расходуют и вновь запасают.
И вот он, главный вопрос: как это происходит?" КАК и ЧЕМ, синтезом каких ферментов каждый раз отвечают клетки - по отдельности и все вместе внешнему миру?.. Какие автоматы раскручивают цепочки химических событий оттого, что к наружным мембранам клеток достав-лены глюкоза или аминокислоты, которые мы попросту съели. И лекарства, нами принятые, конечно же, только по рецепту врача. И еще гормоны, которые выбросили в кровь в чрезвычайном количестве ну, например, собственные наши надпочечники или еще чьи-то "в минуту жизни трудную", когда вам или мне, или белому лабораторному крысенку досталась "стрессовая" перегрузка. Да мало ли что еще!.. В этих событиях - основа жизни. Другой нет. А ведь и ежу ясно, что разобраться, как работает любая машина, можно только увидя, не как она стоит, а как она работает: как крутятся в ней всякий раз определенные колесики, как переключаются сцепления и какая во всем атом логика.
По-настоящему - с пониманием сути дела - пронаблюдать генетическую индукцию удалось впервые лет за пять до начала наших событий. Увидеть это удалось у бактерий - у самых простеньких клеток. Было доказано, что при появлении в среде, где бактерии живут, различных Сахаров они тотчас синтезируют определенные ферменты - каждый раз тот, какой необходим для переработки именно лактозы, галактозы или арабинозы и так далее. А тут генетики сумели лишить бактерий неких генов, и, утратив гены, клетки утратили возможность реагировать на индуктор.
Но что бактерии! События, конечно же, следовало изучить на более сложных объектах и стократ подробней. Поэтому в разных лабораториях мира - ив Новосибирске тоже - биохимики и генетики принялись искать подходящие для этого модели. Искали-искали и вдруг точно как Архимедово восклицание "Эврика!" прозвучала работа шведского генетика Карлсона - однофамильца того Карлсона, который живет на крыше. Карлсон-генетик обнаружил, что некий гормон насекомых, название которого нам ни к чему, в клетках у личинок заставляет работать именно какие-то гены - ничто иное. А в итоге у личинок усиленно образуется хитин, вещество для насекомых крайне важное.
После работы Карлсона у Рудольфа Иосифовича Салганика, да и не у него одного, утвердилась мысль, что именно гормоны - по меньшей мере некоторые из них - служат "индукторами", сигналами-побудителями запуска синтеза ферментов в клетках животных. Что они - специфичны по действию, то есть нацелены каждый на определенный ген или группу генов, а "гены выражают волю гормонов". Им казалось, а скорей мечталось, что гормоны это быстро докажут и покажут, как все происходит, и поэтому в новосибирской лаборатории к работам, которые шли своим чередом,- по механике синтеза ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновой кислоты, попросту молекул- генов, и по управлению мутациями, то есть изменениями в этих генах, прибавились эксперименты с кортизолом, одним из гормонов надпочечников.
В 66-м они были на полном ходу. Кортизол действительно оказался индуктором. Включал в клетках ген фермента, запускающего цепочку реакций, которые мобилизуют в минуты высшего напряжения сил необходимую энергию. А как хорошо было бы, если б на каждое звено химических цепочек хватало хотя бы года работы! Ведь не хватает! По этой проблеме в разных странах и сейчас работает если не армия, то во всяком случае не меньше, чем хороший полк исследователей, и конца делу пока не видно, потому что - как всегда в науке - каждый решенный вопрос рождает десять новых.
Но тогда казалось, что все великолепно. Вопрос возникает за вопросом. Ключ в руках, и все гормоны должны работать одинаково - через генетический аппарат.
И вот тут подоспел со своим докладом Грегори - со своим докладом и своим пентагастрином. А раз есть новый гормон, чистенький, даже синтетический, то почему же не попробовать "и эту лошадку" - а вдруг и гастрин себя покажет генетическим индуктором? Не кроется ли за ним желанная простота - ведь гастрин вызывает в желудке синтез примитивной соляной кислоты. Не окажется ли в этой биохимической машинке не столь длинная и не столь сложная цепочка процессов?..
- О! Это очень привлекательно! - воскликнул Грегори.- О! Я с удовольствием пришлю вам препарат.
Ну, а теперь о второй причине, взволновавшей Рудольфа Иосифовича. Она была уже не деловой, а сугубо эмоциональной - связанной с его научной юностью, с днями, когда он, двадцатитрехлетний, пришел с фронта на кафедру физиологии Киевского мединститута и некоторое время спустя как личную катастрофу воспринял происшедшие на кафедре перемены.
...Блестящего физиолога Даниила Семеновича Воронцова, продолжателя дела знаменитой школы Введенского, сменил на кафедре другой блестящий физиолог из еще более знаменитой школы Павлова - не кто иной, как Юрий Владимирович Фольборт! Что он за человек, Рудольф Иосифович и понятия не имел, зато как пить дать было ясно, что у него теперь поменяют тему уже начатой работы, которой он отдал чуть ли не целый год. Скажете, это срок смешной, но для только что очутившегося в запасе гвардии капитана медслужбы Салганика время еще текло по меркам тех недель, когда его гвардейская воздушно-десантная дивизия на земле затыкала собой у озера Балатон горловину "мешка", из которого в смертной отчаянности рвались окруженные эсэсовские части, и все личные планы полкового врача на будущее строились под огнем с непременной поправкой "если доживу".
Но трагедии не состоялись, д добрейший Фольборт стал его учителем, и Грегори просто охнул, когда Салганик сказал ему, что он ученик Фольборта и знает из первых уст о буре, шестьдесят лет назад разыгравшейся вокруг открытий секретина и гастрина - об Эдкинсе, Попельском, Павлове...
2
Трудно пожелать другую научную судьбу, чем та, которая сложилась за тридцать лет у Рудольфа Иосифовича,- почти все, что он задумывал и начинал, ему удавалось. Правда, пришлось научиться волочь себя зубами за шиворот, когда все застревает и буксует, и, напротив, свирепо себя взнуздывать, если дело принималось вдруг идти с подозрительной легкостью,- и вот уже через какие- нибудь пять или двадцать лет любая работа завершалась некими ощутимыми итогами. (Его лаборатория участвовала, кстати, в "проекте Ревертаза", в работах по созданию ферментных систем для синтеза генов. Когда эту книжку уже набрали, группе ученых была за них присуждена Государственная премия. Ему - тоже.)
Ну, ведь не на что жаловаться-то! А вот Рудольфу?
Иосифовичу, видите ли, и сейчас жалко, что не была закончена его первая работа - вроде бы он остался чем-то обделен, не дойдя в ней до какой-нибудь точки.
...То была этакая чопорная, немного старомодная физиология в истинном русле школы, к которой принадлежал его первый учитель - Воронцов. И, естественно, в ней было много от характера основателя той школы - Николая Евгеньевича Введенского, ученого, совершенно противоположного Павлову и нравом, и складом, и устремленностью как можно более абстрагироваться от бурных картин физиологии органов и целых систем организма, чтоб искать ключи - к этой же физиологии, конечно,- в элементарных физико-химических событиях.
Николай Евгеньевич был замкнут. Он говорил мало и трудно, отчего даже влюбленнейшие из его немногочисленных учеников были принуждены свидетельствовать в мемуарах, что их учитель "не был блестящим лектором". И воистину уютно Введенский чувствовал себя только в лаборатории - наедине с индукционной катушкой, медными электродиками, телефонным аппаратом, закопченной бумагой на вращающемся барабане, да белой ниточкой нерва и розоватым кусочком мышцы, в целости ювелирно изъятыми из задней лягушечьей лапки:
"Я всю жизнь провел в обществе нервно-мышечного препарата",- усмехнулся он под конец.
А бывало он и себя самого превращал в нервно-мышечный препарат: втыкал электроды в собственную руку поглубже, подсоединял телефон и напрягал и расслаблял мышцу, чтоб услышать в трубке "звук катящейся кареты" - бег электрических импульсов - такой, как в лягушечьей мышце или в лягушечьем сердце.
"Общества нервно-мышечного препарата", вернее, общества этой строго индуктивной по мысли, а по подходу - сугубо физической науки хватило на несколько поколений физиологов - так много оказалось возможным в ней увидеть и объяснить посредством понятий, для обычного уха абстрактных как клинопись: "ирреципрокность", гкатодическая депрессия", "ипсилатеральное раздражение". Ну, а из многих ее достижений назовем хотя бы два: столь наглядную и привычную электрокардиографию и поразительное открытие Александром Филипповичем Самойловым гуморальных химических звеньев в нервной связи!
Он с точностью до стотысячных долей секунды измерил, как в лягушином нервике замедляется от понижения температуры нервный импульс, и особо - как замедляется его передача с нервного окончания на мышечное волокно. Здесь, в месте их контакта, скорость импульса снижалась резче - словно бы перепад температуры изменял ход химической реакции. Его вывод: в нервном окончании возникает некое вещество, видимо, и передающее сигнал другой клетке - мышечной или железистой, или другой нервной. И еще за годы до того, как биохимики уловили молекулы этих "медиаторов", веществ-посредников, Самойлов высказал прозорливое суждение, что гуморальная регуляция, гуморальная передача информации в организме - эволюционно самая древняя. Ведь одноклеточные и примитивные многоклеточные существа другой не знают и сейчас. А нервный механизм - это позднейшая надстройка. Но даже в нем, в его важнейших узлах, остался и работает тот исконный, гуморальный.
...А Юрию Владимировичу Фольборту, второму учителю Салганика и в голову не пришло бы понуждать его бросить "первую любовь": ночные опыты - в ночи слышнее телефонный гул катящихся импульсов, и зубчики на закопченной ленте - след перышка, скрепляемого с мышцей. Фольборт был мягок, ироничен и всему учил без назидательности. Просто иногда накатывало на него "мемуарное настроение", а ведь нарочно не найти пример сильнее, чем история спора Павлова со Старлингом и Бейлиссом?.. Кстати, Фольборт вспоминал не только поучительные факты и возвышенные минуты своей юности, когда сам Иван Петрович причащал его у операционного стола драгоценной своей физиологической хирургии, но и рушившиеся при том же на него учительские громы: "Опять этот треклятый немец зарезал собаку!" И еще - смешные ситуации, в какие он попадал по своей неистребимой, да так и не истребленной сибаритской способности поспешать только медленно.
Ведь каждое утро павловской лаборатории начиналось одним и тем же вопросом, звеневшим, как только Иван Петрович распахивал входную дверь: "Фольборт здесь?! Нет? Опять! Ух!.." А надо знать Павлова, пунктиком которого было появляться всюду лишь с вежливостью короля: точно секунда в секунду! И ради этого он всегда непременно заранее приходил к двери - неважно, лекционной аудитории или дружеской квартиры и, случалось, не минуту, не две и не три дожидался под ней, когда часовые стрелки приползут в назначенное положение.
Так представьте же себе, какие ярко-синие молнии вылетели из пронзительных Павловских глаз, когда на утреннюю лекцию, где в очередной раз надо было демонстрировать экспериментальный диабет у собаки с удаленной поджелудочной железой, кафедральный прозектор Фольборт утомленно явился не более чем через четверть часа после начала.
...И вот спустя какие-то считанные секунды Павлов указывает пальцем в крохотную дворняжечку, выхоженную после операции, и говорит студентам, что сейчас, дабы они убедились в подлинности сообщаемого, им покажут удаленную железу и, оборотившись к Фольборту, вопрошает:
- Где железа?!..
А, естественно, полагалось, чтоб железа еще до начала лекции была принесена на жестяном подйосе в аудиторию и поднос поставлен на демонстрационный стол.
Но там нет даже и подноса.
И, услышав этот грозный вопрос своего принципала и ощутив, что надвигается уже не гроза, а ураган, еще не отдышавшийся прозектор Фольборт с необычайным проворством пулей кинулся в дверь подсобной комнаты, вмиг там извлек из первой попавшейся на глаза банки первую попавшуюся в руки заспиртованную железу, каковую вмиг шлепнул на поднос и лихо тотчас же представил аудитории - к ее великой радости, ибо железа эта оказалась величиною чуть не в полсобачки, поскольку в свое время принадлежала огромному догу...
Человек с таким чувством юмора к себе, как сами понимаете, не мог прибегнуть к диктату и приказать ученику бросить начатое дело лишь потому, что сам он занимался другой сферой той же науки. Но обстоятельства то и дело бывают выше нас! Ведь Салганик появился на кафедре мединститута в качестве "годичного ассистента" - после войны был заведен такой временный статус для подготовки недостававших научных работников - нечто вроде укороченной аспирантуры. Но год истек и даже два, а другой вакансии на кафедре не возникло, и Фольборт, который заинтересовался Рудольфом Иосифовичем, предложил ему работу в лаборатории, которую он сам и возглавлял в Украинском институте питания - очень сильном в те годы научном заведении.
А вот там уж деваться было некуда: у лаборатории строгий профиль и еще более строгий план - ничего кроме физиологии пищеварения! Вот и возникла в личной жизни Салганика фундаментальная проблема индукции синтеза ферментов. Явилась ему в желтеньком старческом обличье журнального оттиска давней статьи Нобелевского лауреата 1910 года - биохимика Альберта Косселя, посвященной ферменту по имени аргиназа. Сей фермент трансформирует в организме аминокислоту аргинин, входящую в состав белков,- ее необходимо переделывать в другую аминокислоту, которая хорошо выводит из организма аммиак.
Тот оттиск снял со своей книжной полки, конечно, Юрий Владимирович. Снял, вручил и сказал:
- По-моему, было бы очень недурно посмотреть, не появляется ли аргиназа в кишечном соке! И мне думается, именно такая работа вам придется по душе.
Нужно было заполнить пробел: никто еще не определял, есть там такой фермент или нет.
Окном в организм, которое предстояло использовать для этой работы, была кишечная фистула Тири-Велла, названная именами того, кто изобрел, и того, кто усовершенствовал. Оперируя по их методу собаку, из кишечника вырезают одну петлю, но так, чтобы сохранить нетронутыми все ее сосудистые и нервные связи. Затем кишечник сшивают, а оба отверстия петли выводят наружу, и этот изолированный участок кишки выдает сквозь отверстия, сквозь фистулы точно те же железистые продукты, что и должны возникать в целом кишечнике.
Именно эта операция, которая была придумана, когда еще Павлов был студентом, и сделалась потом родоначальницей всей великой павловской физиологической хирургии, назначенной для эксперимента на живом - на выздоровевшем после вмешательства животном.
И вот Рудольф Иосифович взял собаку. Прооперировал - вместе с Фольбортом, сам он был, мягко говоря, недостаточно искусен для такого дела. Выходил собаку после операции. Поставил в станок. Приклеил к отверстиям фистул пластырем и менделеевской замазкой маленькие лабораторные стаканчики для сбора кишечного сока. А потом стал определять, содержится ли в собранном соке аргиназа или ее там нет.
Правда, чтобы это определить, нужен был чистый аргинин. Достать его тогда было негде. Это сейчас любой биохимик автоматически пишет в начале каждой статьи:?
"В работе использовались следующие реактивы и материалы:. протамии-цинк-инсулин (завод "Орфас", Каунас), глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа ("Serva", ФРГ), нитросиний тетразолий ("Hemapol", ЧССР)"... Вежливость?.. Да.. И еще изготовитель гарантирует качество препарата - его высочайшую чистоту, без которой нельзя работать. Ибо каждая молекула биологически активного вещества - это самонаводящаяся грузовая ракета. И "мишень" для нее - не просто определенный вид живой ткани, например,, железистая ткань желудка, а определенные ее клетки - либо "главные", либо "обкладочные". Больше того, в каждой из клеток есть еще и "яблочко" - свое для каждого химического снаряда - точка стыковки, биохимический прибор, заготовленный Природой для взаимодействия с приходящими извне молекулами, каждый - для молекул строго определенного вещества. Малейшая примесь чего-то постороннего сделает взаимодействие неполноценным, помешает ему или исказит его, запустив разом и еще какой-то клеточный механизм.
Ну, а тридцать лет назад Рудольфу Иосифовичу негде было приобрести чистый аргинин. Пришлось поучиться добывать его из белков самому. И месяца через два-три, как только он сумел получить эту аминокислоту, выяснилось, что аргиназа в соке есть.
А знаете, найти фермент там, где он прежде прописан не был,- это как-никак все же открытие. Пусть маленькое. Пусть несопоставимое с обнаружением хотя бы самого захудалого пи-мезона. Но все-таки согласимся хотя бы, что оно было достаточным вознаграждением за перемену темы и незаконченную работу по нейрофизиологии - Юрий Владимирович Фольборт тоже не преминул интеллигентно и без нажима на это Рудольфу Иосифовичу намекнуть. Однако вместо того, чтобы радоваться, Рудольф Иосифович крайне забеспокоился. Он забеспокоился - не ошибка ли все это? Все-таки в биохимии-то он еще новичок.
Стал проверять и видоизменять и вновь повторять опыты, советовался с тамошним профессором-биохимиком Борисом Ильичом Гольдштейном. Одалживал у него реактивы. Пришел к мысли, что надо посмотреть, не изменяется ли активность фермента от того, сколько аргинина поступает с пищей в кишечник. Стал прокачивать сквозь петлю растворы, содержавшие то большее, то меньшее количество этой аминокислоты, а клетки четко отвечали на его вопрос: нет аргинина - и почти не будет аргиназы, есть аргинин - будет фермент, и его активность, которая служит количественным критерием, возрастет пропорционально количеству индуцирующего вещества.
Тогда Салганик решил испытать, как ответят железистые клетки на действие других веществ. Прокачал сквозь кишечную петлю раствор крахмала и обнаружил, что в кишечном соке ощутимо повысилась активность фермента амилазы, который расщепляет крахмал. А когда он прокачал раствор сахарозы, то в соке повысилась активность другого фермента - инвертазы.
Он очень взволновался - ведь это было экспериментальным подтверждением идеи, что синтез ферментов - процесс приспособительный, или, на профессиональном языке, "адаптивный". Этой идеей не раз увлекались физиологи, о ней было немало споров и нервной системе даже приписывали способность командовать, какой фермент следует немедля произвести на свет. Но еще Павлов доказал, что железы кишечника работают независимо от нервной системы - их пробуждает прямой контакт веществ пищи с их клетками. А вот о том, что приспособление может осуществляться на совершенно другом уровне явлений - на генетическом, молекулярном, тогда физиологи еще не думали.
Но все выходило слишком хорошо и однозначно, а главное - так просто, что Рудольф Иосифович не поверил в чистоту своих экспериментов. И отважился опубликовать только маленькое сообщение, что, в кишечном соке им обнаружена аргиназа, а об остальном написать не решился - но что уж теперь об этом сетовать. Зато было вполне логичным, что Салганик стал заниматься далее только биохимией - теперь уже под руководством Бориса Ильича. Причем, именно биохимией нуклеиновых кислот - разделом науки, который тогда день ото дня становился все горячей, отчего знаменитая "двойная спираль" стала мало-помалу делаться как бы символом нового научного века - века молекулярной биологии, лихо замахнувшейся расшифровать бесчисленные секреты хранения, изменения, считывания и передачи нуклеиновой наследственной информации и ее овеществления в яви белковых молекул - в яви ферментов!
Все эти тонкие, сложные, тогда еще совсем почти не раскрывшиеся процессы и механизмы уже, однако, были воплощены в три столпа "главной догмы": "ДНК - РНК - белок", еще совсем новехонькой, но уже изрядно взбудоражившей умы. Предположить, будто именно на этом пути и удастся разобраться в том, что волновало, было нетрудно. А стоило одним "коготком" завязнуть в самом маленьком, в первом для себя ее вопросе, и - пропал Салганик!
...И пошел он, уже осененный научной репутацией "не мальчика, но мужа", то вечерами, то утрами, точно какой-то зелененький первокурсник и лекции слушать на химфаке Киевского университета по органической и по физической химии, со своего студенчества изрядно позабытым, и практиковаться в новейшей лабораторной технике этих наук, какие перенимала молекулярная биология,- только разве экзаменов не сдавал, не надо было ему отметок. А ведь еще приходилось выкручиваться, чтобы работа, за которую ему платили деньги и ради которой он все это затеял, не спотыкалась, пока он доучивается, а шла, как надо.
Ему еще предстояло изрядно вышколить себя как экспериментатора. Возмужать как исследователю. Выполнить ряд серьезных работ - в частности, о все той же индукции. И еще хотя бы обрести свою лабораторию - ее он обрел в 58-м, когда переехал в Новосибирск из родного Киева - двадцать лет назад, в числе тех многих десятков ученых, и совсем молодых, и не совсем, как он, молодых, и даже очень к тому времени маститых.
Все они или почти все они - независимо от своего ранга - оставили в те дни свои города, столичные и нестоличные, свои прежние жизни и рабочие места, привычные и нередко завидные, и перебрались сюда, чтобы - как писали газетчики - "делать большую сибирскую науку". Да, именно так. Но еще, конечно же, и ради своих личных научных дел, личных научных замыслов.
Все в этом были едины. И академик Михаил Алексеевич Лаврентьев, мечтавший не только об особенном институте, целиком сосредоточенном на проблемах гидродинамики, но о Городке - о комплексе исследовательских учреждений, в котором будет воплощено истинное взаимосплетение и взаимообогащение строгих математики, физики, химии и тогда еще не столь, как они, строгой биологии и наук гуманитарных. И "рядовой старший научный сотрудник" и уже умелый биохимик Светлана Владимировна Аргутинская, которая хотела работать именно в биохимической генетике - нигде более. И Валентина Федоровна Древич, вчерашняя студентка, для всех пока только Валя, жаждавшая начать свою жизнь сразу интересно, в самом горячем деле. (И что ей была за беда, если ее, по ее юному состоянию, поселили в лаборантское общежитие - в книжном магазине, вот где оно помещалось, но добрые сибирские морозы своими узорами на магазинных витринах надежно скрывали от постороннего взгляда подробности девичьей жизни начинающих генетиков, биохимиков, цитологов и электронных микроскописток!) И тем, кто пришел в Институт цитологии и генетики, тогда, в 58-м, было всего важнее, что в нем складывалось неповторимое для тех дней общество людей этой науки: работников всех ее уровней - от молекулярного до эволюционного, и всех ее приложений - от селекции пушного зверя и свеклы до генетики рака. И что воздух той половины третьего этажа дома на Советской 20, где они проживут, проработают первые годы, будет насыщен великолепным сочетанием знаний и профессиональных идей!..
То был расчет - простой, разумный и в высшей степени благородный.
Спросите, чем же они все эти годы занимались - и Древич, и Салганик, и Аргутинская - с "младенчества" их лаборатории в небольшой, разгороженной зеленой фанерой комнате, отведенной им в старом Новосибирске,- в том доме, где первое время, пока на берегу Обского моря пе начал входить в строй дом за домом их Академгородок, теснилось чуть ли не все Сибирское отделение Академии наук?
Они занимались индукцией. Ее молекулярным механизмом. И там - в самые первые их месяцы и все последующие годы - уже в Городке, в хорошо придуманном институтском здании, где тогда им было еще просторно, где им были даны роскошные, другим на зависть, приборы, холодильные комнаты, боксы для работы с вирусами,- они в первую голову занимались индукцией.
Были другие работы, яркие - по нуклеазам, по разрушающим нуклеиновые кислоты ферментам, которые они в итоге сделали противовирусными препаратами. И по мутагенезу, и еще по многим проблемам - теоретическим и прикладным. Было удивительное время, когда строилась предсказанная у порога нынешнего столетия?
Павловым "последняя ступень науки о жизни". И они учились задавать Природе особые вопросы этой "последней ступени". Обретали и осваивали ее "чрезвычайные методики", ничуть не похожие на прежние. Думали, мысленно видя ее особые образы, начиная от знаменитой "двойной спирали" ядерной ДНК -молекул-генов, и четырехбуквенного химического кода, каким записана в них наследственная программа, до всей машины овеществления этой программы.
То есть включения и выключения генов.
И воспроизведения их информации в точно таких же, как они, новых молекулах ДНК - по предсказанному Кольцовым принципу "отпечатка с матрицы".
И механизма переписи этой информации или, по-научному, ее "транскрипции", в структуру молекул информационной рибонуклеиновой кислоты.
И ее "трансляции", наконец,- ее передачи, воплощении в белковые ферментные молекулы, собираемые в клеточной цитоплазме рибосомными "сборочными агрегатами" по таким вот информационным PHK-овым матрицам.
Любой из названных и уже недурно изученных молекулярных генетических механизмов - теперь целая глава науки, содержащая множество важнейших фактов и преизрядное число еще не разрешенных важнейших вопросов, и память о разных казусах, без которых ничего в мире не обходится.
Вот, например, Рудольф Иосифович Салганик помнит, как летом 1961 года в актовом зале МГУ, где заседала одна из секций Международного биохимического конгресса, вышел на трибуну никому тогда еще не известный молодой американец Маршалл Ниренберг и начал рас-сказывать, что ему и его коллеге Генриху Маттеи удалось прочесть первый знак генетического кода! Они впервые в истории ввели в модельный биохимический "котел" искусственную матрицу - уродливое подобие природной РНК, состоявшее из многократно повторенной одной нуклеотидной "буквы"^ и, ошеломленные, увидели, что в "котле" произошел синтез небывалого в Природе белковоподобного вещества "полифениланина", состоявшего из множества повторений всего одной аминокислоты!..
И когда он об этом говорил, ошеломлены были уже все; кто слушал, и московский биохимик, чье имя оставлю в тайне, синхронно переводивший выступление Ниренберга на русский, так заволновался, что стал с какой-то фразы переводить его с английского на английский, правда, на много более громкий!..
Правда, проблема генетической индукции синтеза белка сенсаций тогда еще не сулила. Но у новосибирских биохимиков-генетиков был свой подход к ней, и она всегда и непременно оставалась главной и для тех из них, кто начинал жизнь лаборатории, и для тех, кому и ее рождение, и рождение Городка было уже из "времен очаковских и покоренья Крыма", ну, как для студентов- дипломников Коли Мертвецова и Рахмета Берснмбаева, ныне без пяти минут профессоров, а главное - знатоков, "съевших собаку" в своем деле, которых, естественно, теперь называют только по отчеству.
Николай Павлович Мертвецов теперь заведует лабораторией в другом институте, а Берсимбаев возглавляет кафедру в Алмаатинском университете и сам школит в кафедральной лаборатории собственных своих учеников.
Годы, годы и годы ушли на то, чтобы выполнить "нулевой цикл", на рытье котлована и на фундамент сегодняшней химии клетки. На освоение и разработку приемов разделения ферментов, на изучение их разновидностей - "изоферментов", на исследование химических характеристик и констант, и взаимодействия с разными субстратами, и на многое другое, что нужно было узнать и накопить, и осмыслить, пока коллеги узнают и накапливают иные факты и мысли. И прежде тоже - все, накопленное к каждому данному дню, складывалось у них в некие системы и не раз казалось, что вот-вот - стоит только перевернуть эксперимент "с ног на голову" или "с головы на ноги" - и выплывет из-за некоего угла Ее Величество Истина. Но мысль, которая сделалась для их работы ключевой, пришла только в ходе разбирательства цепочки ферментных последствий, которые вызывают в клетках желудка гастрин - точнее, пентагастрин, синтетический гормон, присланный им в Новосибирск Родериком Грегори - они же работали именно с его препаратом.
...Это легко было рассказывать, как работали Попельский и Старлинг. А вот каково нарисовать опыты, состоящие из того, что изо дня в день с утра и до ночи три или два, или пять человек, без звука делясь и меняясь обязанностями, готовят реактивы, что-то измельчают, чем- то заливают, выдерживают пробирки в тепле или холоде, снова добавляют, снова выдерживают, наливают в тонкие стеклянные колонки, набитые ионообменными смолами, или часами крутят в ультрацентрифуге на скоростях в десятки тысяч оборотов в минуту, чтобы спустя время на спектрофотометре, или радиоспектрометре, или еще на чем-то измерить что-то в каплях фракций, на какие стотысячекратная сила тяжести разделила исследуемый материал. И снова, и снова, и еще...
3
Только ради всего святого не надо рисовать себе картину, будто в миг, когда на столе Рудольфа Иосифовича очутилась пришедшая из Ливерпуля посылочка с гормоном, в лаборатории загремел некий сигнал общего сбора. И будто тотчас умолкло щелканье радиометрических счетчиков и жужжание ультрацентрифуг, а из ионообменных колонок испуганно перестали капать капли белковых или еще каких-то там фракций. И будто бы сотрудники, дружно окружив стол заведующего, принялись благоговейно ждать решения, кому из них повезет участвовать в новом деле...
Ничего подобного! Все жужжало, щелкало и капало, как вчера, и год, и три назад, и все руки и головы были заняты - если вычесть семейные заботы - только уже налаженными лабораторными делами. И потому, когда Рудольф Иосифович под вечер завершил очередное обсуждение с коллегами законченных опытов по одной теме и еще предстоящих опытов по другой и редактирование статьи то ли для "Докладов Академии наук", то ли для журнала "Генетика" - по третьей или по четвертой теме, ему совсем не просто было решить, кто все-таки из его сотрудников займется гастрином.
Ибо сколь бы интересными ни мерещились возможные результаты работы, но была еще и равная вероятность, что этих результатов получить не удастся - ну, хотя бы в некий обозримый период. А новая работа требовала затрат сил и времени еще и на освоение особых методик, и не только биохимических - это куда ни шло, но и физиологических, да еще непривычных - тех, какими можно выяснить, что там такое вызывает гормон в желудке белого лабораторного крысенка: ведь для этого надо уметь промыть желудок крысенку.
И вот еще неизвестно, сколь благодарным будет труд, а наверняка доступными можно считать только два результата из возможных. Первый - это ответ на вопрос, действует ли гастрин непосредственно на генетический аппарат: да или нет. Второй - какова связь между действием гастрина и гистамина на клетки желудка, так сказать, между "эффектом Эдкинса" и "эффектом Попельского", несомненно сосуществовавшими. В тот день Рудольф Иосифович почему-то решил, что загружать этой работой кого-либо из постоянных сотрудников будет расточительством. И как раз ему еще надо было назначить тему для диплома Рахмета Берсимбаева, студента Новосибирского университета, весьма способного парня - уже знакомого Рудольфу Иосифовичу и по экзаменам, и по курсовой практике, пройденной здесь, в лаборатории, а теперь явившегося на преддипломную.
Произведя в уме эти нехитрые выкладки, Салганик пригласил Светлану Владимировну Аргутинскую, к которой Рахмет уже был прикреплен, и, надо сказать, Светлана Владимировна не испытала никакого восторга от-того, что приданный ей дипломник займется новым делом - гастрином. Потому что сама она тогда занималась длительной индукцией кортизолом - иначе говоря "химической памятью" генов, и той работы еще хватило бы не на одного дипломника. Да ведь ей и самой теперь придется отвлекаться, а то и просто переключаться с одного дела на другое! Но, впрочем, Светлане Владимировне это доставалось не впервые. Быть давнишним и заведомо надежным работником - положение в лабораторной жизни далеко не самое вольготное. Именно такой работник при первом же случае и слышит: "А не смогли бы вы, Светлана Владимировна?.."
Словом, что бы там ни думалось, а наутро Салганик, Светлана Владимировна и Рахмет стали планировать первые опыты. И тот простой принцип, па котором те опыты были построены, всем нам известен с детства - ибо нет ныне человека, который не пытался хотя бы однажды выяснить в родительских часах или в собственной заводной автомашинке, какая шестеренка какое колесико двигает. Ничего лучше нельзя для этого придумать, как воткнуть в шестерню или в колесико простейший тормоз - палочку!..
Позднее всем - и Аргутинской, и Берсимбаеву, и Салганику, и десяткам других биохимиков - пришлось убедиться, что далеко не каждый гормон работает как генетический индуктор. Что немало из них приводит в движение не гены, а следующие звенья биохимических цепей - таков секретин, кстати! Синтетический гастрин оказался для новосибирцев в этом смысле находкой, а ведь мог и не оказаться! Не знаю, найдется ли ученый человек, что начисто отбросит такой немаловажный фактор, как обыкновенное "везенье", без которого наука тоже не живет,- читатель, надеюсь, согласится с этим.
Словом, когда Берсимбаев и Светлана Владимировна, помаявшись с крысами, навострились четко прослеживать события, происходящие в клетках слизистой крысиных желудков, выяснилось, что гастрин даже в минимальной дозе побуждает в них к работе именно некий ген, или некие гены, потому что в клетках сразу начинается интенсивный синтез РНК и белка, который и приводит уже в самом конце еще не выявленной лесенки к образованию соляной кислоты. А если "воткнуть химическую палочку" в первые же из шестеренок клеточного механизма, то есть ввести антибиотик актиномицин, который блокирует в ядрах транскрипцию, или заблокировать другими веществами - этионином или пуромицином - трансляцию, то гастрин оказывается бессилен вызвать и синтез РНК, и синтез белка, и вое дальнейшее.
Но если вот так же заблокировать ген от действия гастрина, а после этого ввести животному гистамин - правда, в ощутимой дозе, то конечный эффект - секреция соляной кислоты - начинается как ни в чем не бывало.
И главное, гистамин сам возникает в ткани желез желудка - сразу после того, как гастрин включил в их клетках "свои" гены. Доказать это было "делом техники", и счетчики четко регистрировали множество молекул радиоактивной углекислоты, отщеплявшихся от меченой радиоактивным углеродом аминокислоты гистидина. Ведь гистамин - это то, что и остается от гистидина, когда от него отщепилась углекислота...
Так были выверены первые звенья цепочки: ...гастрин индуцирует ген, программирующий синтез фермента,
...этот фермент отщепляет от гистидина углекислоту, чем и превращает гистидин в гистамин,
...а гистамин срабатывает как исполнитель воли гастрина - или, если он введен извне, то воли экспериментатора - и включает в клетках желудка некие следующие звенья синтеза ооляной кислоты.
Для приличия подобает сообщить название индуцируемого фермента. Вот оно: "гкстидиндекарбоксилаза, то есть "отщепительуглекислотыотгистидина" - просто и мило, как у большинства ферментов.
Поисков ответа лишь на первые вопросы с лихвой хватило на все время, отведенное Рахмету Берсимбаеву для дипломной работы, и сверх того - на несколько лет. И еще для того, чтобы Светлана Владимировна не могла больше ничем другим заниматься. Извините, но выкладки, мимоходом сделанные Рудольфом Иосифовичем, дескать, на что "потянут" предстоящие опыты с гастрином, оказались слишком скромны. А стоило задать вопрос: "Что там дальше - как работает гистамин?" - и посыпался каскад экспериментальных задач, отчего в дело оказались вовлечены не только Рахмет, Аргутинская и Салганик, но и многие другие люди, и даже совсем не биохимики.
Сорок с лишним лет - со времен Попельского - глава биохимии, посвященная гистамину, представляла собой лишь перечень несчастий, какие этот вездесущий "делец" способен учинить в организме, оказавшись по разным причинам в избытке. Первые места в том перечне занимали явления аллергии и травматического шока и последствия ожогов и обморожений. О нормальной роли вещества можно" было говорить только в общей форме: гистамин, вероятно, химический регулятор некоторых функций - посредник, способный по воле то ли нервной системы, то ли гормонов вызвать секрецию желудочного сока или, например, еще спазм гладкой мускулатуры, или расширить капилляры и тем снизить кровяное давление. Только к шестидесятым годам в науке появились приборы и методы, та новая техника и новая технология исследования, которые; позволили "опознавать в лицо" всех "действующих лиц" событий, из каких слагается жизнь клетки. Но, пожалуй, не стоит здесь объяснять, в чем суть "хроматографии на ДЭАЭ", то есть на "диметиламиноэтилцеллюлозе" или "инкубации с АТФ, меченой по фосфору". Методик много, страниц осталось мало: предел есть всему - и книге и читательскому терпенью.
А наука - дело артельное, и друг другу помогают и подсказывают коллеги не только из соседней лаборатории института, но и из совсем не соседних стран. И как раз когда Аргутинской, Берсимбаеву и Салганику пришло время разбираться в том, что же конкретно делает гистамин, пробужденный гормоном в желудочных клетках, со страниц сразу нескольких биохимических журналов прозвучала "подсказка": дескать, в других тканях - в ткани легких и в клетках мозга он активирует фермент аденилатциклазу, который производит па свет еще одно вещество, в свою очередь работающее как посредник, а именно "циклический 3', 5'-аденозинмонофосфат". Сокращенно "ц-АМФ".
Этот самый ц-АМФ - тоже вездесущ. Его обнаружили и в одноклеточных и в многоклеточных организмах, во всех тканях всех растений и всех животных. Он весьма сановный, дорогой посредник - он образуется из АТФ, из аденозинтрифосфорной кислоты, универсальной носительницы химической энергии, "энергетической валюты клеток". И чтобы его изготовить, надо эту валюту истратить. Сейчас ц-АМФ признан "королем биохимической регуляции", выразителем воли разных индукторов ферментного синтеза. Кстати, его открытие позволило понять, что многоступенчатое химическое посредничество - это в организме обычное дело. Причем и гистамин, и другие биологические амины, серотонин например, способны заставлять ц-АМФ в различных тканях "исполнять волю" разных "заказчиков", которая уже по одному этому всякий раз разная. А то, что результат работы такого неспецифического посредника каждый раз свой, определяется всего лишь тем, где именно срабатывает этот "посланец" - амин: из каких клеток выходит и какими клетками тотчас захватывается.
Итак, подсказка прозвучала! Но уж такова ученая жизнь-вы постоянно получаете от своих коллег великолепные сведения о том, что ими было сперва заподозрено, а потом установлено и доказано на другом объекте, однако эти сведения, каким бы авторитетом они ни были осенены, вы имеете право принять только как повод для собственных подозрений: "а не то же ли самое происходит в изучаемой мною ткани?" Просто опереться на такие чужие данные - это погрешить противу правил точной, корректной и вечно недоверчивой науки. Надо ставить эксперимент.
Что ж! У крыс уже известными способами - актиномицином и этионином - был заблокирован синтез гистамина, и "король регуляции", точно так же, как его "отключенный" предшественник, вызвал в крысиных желудках секрецию соляной кислоты - это был результат прелестный по своей простоте и еще тем, что он тотчас подтвердил ожидания.
А далее, еле прошло каких-то четыре года, как была прослежена, выверена и уже полностью понята вся цепочка событий, совершающихся в клетках желудка.
Смотрите-ка, она - словно стишок про "Дом, который построил Джек":
"Вот клетки желудка, в которых...
... гастрин индуцирует гены на синтез информационной РНК,
... по которой рибосомы производят фермент, ... который переделывает гистидин в гистамин, ... который делает активным другой фермент, ... который образует из АТФ циклический АМФ, ... который активирует третий фермент, ... который синтезирует угольную кислоту, ... которая мгновенно распадается на ионы, ... чтобы клетки обменяли, как это докажется позже, ионы НСО3 на содержащиеся в крови ионы хлора,
... которые соединятся с ионами водорода и образуют НСI, то есть соляную кислоту,
... которая, как известно, активирует фермент пепсин, ... который, как открыл еще Теодор Шванн, переваривает в желудке белки пищи".
Эти новосибирские работы привлекли довольно пристальное внимание коллег - английских, американских, японских, и они в своих исследованиях по частям подтвердили выстроенную в Академгородке схему событий. И если в итоге была бы сложена только она одна, то все равно ведь стоило бы рассказывать об этом многолетнем труде, выполненном на добротном современном уровне, принесшем важные знания и поставившем точку в научной драме, начавшейся восемьдесят лет назад. Точка была поставлена.
И тогда у Рудольфа Иосифовича и возникла мысль...
4
...Именно о том, какова логика этой лесенки биохимических процессов - зачем и почему она устроена вот так, как устроена.
К сожалению, нет теперь в заводе привычек вести дневники или памятки - некогда! И потому Салганику в голову не пришло хоть где-нибудь записать, какого числа, что именно подтолкнуло к этой мысли. А подтолкнуть могло многое. Например, факт, что для запуска гена в работу достаточно исчезающе малой дозы гастрина, а вот гистамина, чтобы он индуцировал другое звено, нужно уже во много раз больше. И еще, быть может, само ощущение, как все удлиняется цепь узнаваемых явлении и как ветвятся экспериментальные задачи..
Взгляните-ка на все это количественно!
Одной молекулы гастрина достаточно, чтобы побудить к работе - индуцировать ген одной клетки. Но при этом будет синтезирована не одна молекула - матрица информационной РНК, а некое число - это известно. И по каждой матрице может быть собрано некое число молекул первого фермента - гистидиндекарбоксилазы. А каждая молекула биологического катализатора срабатывает тоже не один раз, и в итоге в межклеточную среду будут выброшены уже сотни тысяч молекул гистамина. И эти согни тысяч молекул способны активировать такое же число молекул фермента аденилатциклазы, каждая из которых произведет на свет многие молекулы ц-АМФ, и на следующей ферментной ступени эффект снова будет многократно умножен.
В электронике такая схема называется амплифицирующим каскадом, то есть умножительным каскадом. И, конечно же, она эффективна и экономична. А эффективность и экономичность наверняка способствовали ее сохранению при отборе. И весьма возможно, что такой умножительный каскад - это обычная, или, если хотите, "стандартная", "типовая" для организма схема, и по тому же принципу в нем построены другие, а может быть, и почти все биохимические цепи. (Во всяком случае в нескольких ферментных системах позднее это уже подтвердилось.)
Но все следовало проверять, а одних своих рук для этого хватить не могло. Более того, своих рук недоставало даже чтобы выяснить столь естественно напросившийся вопрос: а как расположен этот каскад в клетках и каким образом он связан с теми различиями в их строении и деятельности, которые давным-давно увидены, зарисованы, сфотографированы и описаны гистологами.
...В любом учебнике гистологии сообщается, что в желудочных железах существует три вида клеток: главные, обкладочные и добавочные, которые различаются такими-то и такими-то особенностями своего строения и расположения. Главные производят пепсиноген - неактивную форму пепсина. Обкладочные - соляную кислоту которая пепсиноген активирует. А добавочные - слизь. Однако как ни хороши учебники, старые и не старые, а естествоиспытатель должен действовать так, словно бы никаких учебников и на свете нет, иначе мы бы и по сей день учились по "Метафизике" Аристотеля - труду гениальному, и все же за 2300 лет несколько увядшему.
Но вот как раз для того, чтобы привязывать звенья биохимических цепей к определенным клеткам и клеточным структурам, в лаборатории, которой заведует Салганик, недоставало не просто рук, а рук, которые умеют это делать.
А именно рук Виктории Ивановны Дерибас, Елены Владимировны Киселевой и Нинели Борисовны Христолюбовой, главной в институте мастерицы электронной и всякой прочей микроскопии, естественно, числившихся по другим институтским епархиям. Правда, это никогда ничему не мешало, ибо их институт изначально был придуман для взаимодействий.
Однако кроме покорнейших просьб о соучастии к ногам служительниц суровой морфологии, точнее, к их рукам, надо было еще сложить и пентагастрин и гистамин, меченные радиоактивными изотопами, чтобы Нинель Борисовна и Елена Владимировна смогли бы по изотопным сигналам зафиксировать, в каких клетках эти вещества работают. И когда нужные препараты были получены, а их по особому заказу сделали химики Ленинградского университета, то частицы, испускаемые тритием, тяжелейшим изотопом водорода, включенным в молекулы пентагастрина, оставили па пленках для авторадиографии следы, для всех удивительные.
Ведь начиная еще с Эдкинса считалось, что гастрин действует на обкладочные клетки, ибо это именно они вырабатывают соляную кислоту. А Киселева и Берсимбаев не обнаружили ни единого сигнала меченого гастрина от этих клеток: он в них не попадает никогда - смотрите пленки! Он присоединяется к другим - к "А-подобным" клеткам, иначе - эндокринным, которые вырабатывают гистамин. (Они не значатся даже в нестарых учебниках, поскольку их различили в массе остальных клеток желудка считанные годы назад.)
Но вот зато весь введенный гистамин - конечно, так же как и вырабатываемый на месте,- оказывается захвачен только обкладочными клетками, более чем другие многочисленными,- старым гистологам и захотелось назвать их так потому, что они окружают, обкладывают главные клетки со всех сторон.
И далее при электронной микроскопии Христолюбова и Киселева обнаружили, что гастрин вызывает в эндокринных клетках разрастание,- совсем отойдем от строгого специального языка - "усиленное строительство" сети внутриклеточных мембран. А увеличение этого переменчивого "эндоплазматического ретикулума" клетки - явный признак интенсивного синтеза белка, в сей момент в ней идущего, ибо сборка молекул ферментов, как правило, происходит на рибосомах, пристроенных к мембранам. Больше мембран - больше пристроенных рибосом - интенсивней синтез. Замедляется синтез - сеть мембран мало-помалу "разбирается" за ненадобностью. В других клетках это было уже подмечено, в желудочных зафиксировано впервые.
Христолюбова и Киселева по микрофотографиям просто измерили площади этих мембран и в индуцированных и в невозбужденных клетках - вот так сейчас работают цитологи. Вот так и совершается перевод весьма абстрагированных "формульных" биохимических представлении на реальную почву живой ткани и действующих клеток. Сегодняшние биохимики и биофизики видят клетку уже не "с высоты птичьего полета". Электронная оптика приближает к ней исследователя так близко, что можно рассматривать не только распределение ферментов и других веществ по разным клеткам, но даже расположение молекул внутри каждой клетки. Ведь, как теперь оказалось, вещества не "размазаны" по цитоплазме. Они возникают и работают в определенных пространствах - в "пулах" или "компартментах", ограниченных, судя по всему, эндоплазматическими мембранами.
...А вот и еще одна весьма немаловажная мысль. Как вы сумели заметить, разные ступени умножительного химического каскада размещены в клетках разных типов. И разнородные, "гетерогенные" клетки работают как единый ансамбль. "Музыкальные партии" четко разделены меж их исполнителями, но все они вместе делают одно общее дело.
Эта мысль оказалась весьма назойливой, потому что в ней мог таиться ключ к пониманию взаимоотношений не только данной многоклеточной системы, а и других - может быть, и всех...
Право же, заманчивая гипотеза. Но даже в 1973-м, когда проверка всей концепции шла полным ходом, делая доклад на одном из симпозиумов Стокгольмского международного биохимического конгресса, Рудольф Иосифович отважился говорить только о первой ее части - только о схеме обнаруженного каскада. И во время доклада он увидел, как вдруг просто подскочил на своем месте Оскар Гехтер, американский "молекулярный биолог". И тотчас, как доклад закончился, он подошел к Салганику и заговорил с ним очень горячо: Гехтер, оказывается, уже давно думал, что такие умножительные системы должны бы существовать, но сам он завяз в другой работе и руки не дошли до нужных экспериментов.
А доклад на конгрессе был первым изложением начинающейся складываться теории - правда, Салганик избегает этого слова. В статьях, печатавшихся в советских и в зарубежных журналах, он и его коллеги ограничивались тогда одними экспериментальными данными. Ведь серьезному исследователю психологически очень трудно выставить на обозрение обобщающую схему, которая явно претендует на универсальность. Неуспех оплачивается добрым именем ученого и чаще - безвозвратно. И, конечно же, в 73-м, еще в начале, сам факт, что такие мысли, пусть даже только в своей голове, все-таки обкатывал очень серьезный коллега, был весьма ободряющим.
5
Со дня, когда студент Берсимбаев впервые сделал инъекцию пентагастрина лабораторной крысе, а затем промыл ей желудок, и до выхода коллективной статьи всех участников работы, где был описан функциональный клеточный ансамбль - со всеми доказательствами вплоть до изменений площади внутриклеточных мембран,- прошло больше десяти лет. А ведь и другие сотрудники лаборатории тоже изучали все это время генетическую индукцию - на других объектах, конечно: на ткани печени, на тканях матки. С другими индукторами, конечно,- с другими гормонами и еще с галактозой, с глюкозой, с медикаментами. Но и здесь Рудольф Иосифович и его коллеги по естественному побуждению принялись высматривать те же схемы управления ферментными процессами и те же межклеточные взаимоотношения, какие им уже прорисовывались в работе, шедшей параллельно. Или похожие, подобные.
Труднее всего пришлось изучавшим индукцию ферментов в ткани печени Николаю Павловичу Мертвецову и Валентине Федоровне Древич с дипломниками и аспирантами, работавшими в их группах, и Рудольфу Иосифовичу - тоже. Потому что здесь для единственно верного поворота работы была нужна новая гипотеза, новая логическая схема.
Вот как она выстраивалась.
...Каскад - хорошо. Ансамбль - хорошо. Но ведь в этом-то органе клетки не разнородны и не монофункциональны, как в слизистой желудка. А индукция - самый дорогой способ управления ферментными процессами. На синтез каждой молекулы фермента тратится энергия пяти тысяч молекул АТФ.
Ведь жизнь - это борьба за АТФ, за универсальную энергетическую валюту всего живого на нашей планете. И есть способы более дешевые, экономичные: в некоторых клетках фермент заготовлен впрок, но к нему присоединена молекула, которая делает его неактивным. Падает концентрация молекул, "запирающих" фермент, или их отщепит другой фермент,- и катализатор начинает работать до мгновения, пока не окажется снова "выключенным". Это в тысячу раз дешевле!
А кто хранит дешевизны ради наборы готовых ферментных молекул? Лишь клетки "неквалифицированные", "неталантливые", способные к какой-то одной-единствен- ной функции! Например, как липоцит, жировая клетка, чье дело лишь накапливать запасы жира и отдавать его, если поступит гуморальный приказ. Однако если у органа функций много и такой орган состоял бы из постоянной армии клеток - специалистов узкого профиля, то иные его подразделения - целые клеточные "цеха", клеточные фабрики, каждая со своим сложным хозяйством и системой энергообеспечения, большую часть времени ни-чего бы не делали для организма, зато непрерывно растрачивали бы общие фонды на себя. И если бы такие органы составлялись из во много десятков раз большего числа монофункциональных клеток, то печень человека, например, весила бы по самому скромному счету тридцать килограммов!
Потому Природа и позволяет себе роскошь дорогой индукции. Но только там, где ткани и органы в прямом или в переносном смысле расположены на границе с внешней средой. Внутренняя среда организма должна быть жестоко стабилизирована. Ей необходим гомеостаз - динамическое равновесие. Необходимо относительное постоянство всего, что типично для этой среды: стерильности, концентрации всех элементов - они содержатся в виде ионов различных солей, концентрации Сахаров, аминокислот. А у теплокровных - еще и относительное постоянство температуры.
Клетки, которые стоят у ее "ворот", принимают на себя удары внешней среды, служат как амортизаторы, работая за десятерых - за то и высокая плата. (Видимо, таковы клетки кожных покровов, которым приходится приспосабливаться к тьме всевозможных химических и физических воздействий, и железистые клетки кишечника - ведь им для переработки белков, аминокислот, жиров и углеводов, концентрация которых вечно меняется, нужны всякий раз разные наборы ферментов.)
И нигде этот принцип регуляции не воплощен так полно и так ярко, как в печени - в главной химической таможне и главной лаборатории организма, сквозь которую непрерывно идет переменчивый поток веществ из кишечника и из тканей- аминокислот, жирных кислот и моносахаридов, всякий раз в разных сочетаниях в зависимости от того, какая пища пришлась по вкусу. А с ними и токсических веществ - равно и образующихся в организме и вводимых в него намеренно, при той же бессоннице хотя бы. И наконец, гормонов.
Ибо когда стрессовая перегрузка заставит надпочечники выбросить в кровь кортизол и он, как набатный сигнал, сообщит, что надо - как приговаривает Салганик, в зависимости от характера, воспитания и убеждений - либо драться, либо бежать, либо спасать кого-то, но во всяком случае так или иначе тратить энергию, тотчас же в этих печеночных клетках должны возникнуть ферменты, заново синтезирующие глюкозу из углеводородных скелетиков разрушенных аминокислот.
Плата в пять тысяч единиц АТФ за каждый фермент - никакое не расточительство, а сама рачительность... Ибо для столь многотрудной жизни нет ничего выгодней, чем миниатюрная биохимическая машинка со сменой программ. И такой принцип ее устройства позволяет убить двух зайцев сразу.
Никакая "сверхмикроскопия" печеночных клеток-гепатоцитов пока что не выявила различий в их строении.
И пока что приходилось считать, что каждая из этих биохимических машинок располагает полным набором сменных программ, назначенных органу. Что все здешние клетки полифункциональны - способны на все.
Так неужели все они одновременно изготовляют по двадцать или хотя бы по десять ферментных систем для двадцати или десяти видов постоянной работы, а по аварийным сигналам еще одну-две из них в чрезвычайных масштабах?.. А ведь функций у печени больше двух десятков, и не все они выяснены, не все пересчитаны.
Салганик, например, подумал, что для химических фабричонок диаметром в десять микрон каждая это немыслимо: они должны быть "невидимо неодинаковыми".
Он предположил, что в печени ее многофункциональные клетки все же, должно быть, делят меж собой повседневную работу. Что, обладая равными возможностями, они, видимо, различаются "талантами", то есть чувствительностью к разным индукторам, постоянным и чрезвычайным. Одни особо чутки к кортизолу. Другие - к галактозе, фенобарбиталу или инсулину и так далее, но зато менее чутко, а то и туговато поддаются сигналам второго и третьего из возможных индукторов, и еще потуже и совсем туго - пятого, десятого, двадцатого.
Тогда такой орган, такая ткань, а говоря специальным языком - "популяция клеток", или их "множество", окажется разделено на группы - на "подмножества", или на "субпопуляции" клеток, "относительно гетерогенных", относительно разнородных по функции. Причем при более интенсивном, "аварийном" сигнале индуктора к любому специализированному "подмножеству" могут присоединяться клетки других групп, менее чуткие к нему, а при совсем "громком" сигнале - и совсем "тугоухие"...
И не он один так считал - другим ученым тоже приходил в голову такой вопрос и такой ответ, и разнообразные доводы, его подкрепляющие. Но снова же - такова ученая жизнь, что самые разумные суждения приобретают реальную ценность только пройдя эксперимент!
Вот всего один эксперимент из многих, многолетних, кропотливых, топких, точных. Но зато самый изящный, самый красивый, самый доказательный, решающий - такие издавна называют "experimentum crucis" - "эксперимент креста", на котором как бы оказывается распятой Природа.
...По сигналу кортизола, гормона стрессовых реакции, требующему немедленной поставки энергии, чувствительные к нему клетки синтезируют фермент трансаминазу - первое звено длинной биохимической цепи, в итоге и дающей требуемый гормоном эффект.
Но для этого эксперимента было важно только одно, что трансаминаза, извлеченная из клеток одного животного, при введении в организм другого животного, как и большинство белков, оказывается для него антигеном: чужеродным белком, вызывающим иммунную реакцию - синтез антител.
С момента открытия иммунных механизмов антителам давалось много разных имен. Илья Ильич Мечников метко назвал их "фиксаторами": ведь они связываются с молекулами того антигена, на который выработаны,- очень подходящее сейчас для нас название.
Делалось так.
Крысам вводили кортизол. Через пять часов, когда индукция обычно достигает высшей точки, у них вырезали печень. Измельчали ткань, приготовляли экстракты, осаждали, разделяли фракции хроматографией, снова осаждали, снова разделяли и, наконец, извлекали чистую трансаминазу и этот фермент вводили кроликам. Затем из их крови выделяли возникшие в ней антитела. Обрабатывали антитела красителями, которые в ультрафиолетовых лучах начинают флюоресцировать, светиться. Опять вызывали кортизолом синтез трансамииазы - у других крыс. Через пять часов изымали печень. Приготовляли препараты ее ткани или совсем разделяли ее клетки. Обрабатывали их мечеными антителами. И затем Виктория Ивановна Дерибас помещала препарат под микроскоп, оснащенный кварцевой ультрафиолетовой подсветкой.
Даже здесь все не коротко и не просто, а в жизни было и трудоемко, и трудно, и долго.
...Когда опыт удался, то в ультрафиолетовом микроскопе ткань печени выглядела почти как ясное ночное небо с густыми "звездными скоплениями" и еще отдельными звездочками на общем темном фоне в легкой дымке. К кортизолу, действительно, оказалась чувствительна только часть клеток: и лежащих группами, и разбросанных по одиночке - светящиеся антитела фиксировались на молекулах трансаминазы, в них возникших. Остальные клетки остались темны - они на сигнал гормона не среагировали, фермента не содержали, и поэтому светящимся антителам не к чему было прилипнуть.
А при возрастающих дозах кортизола начинали светиться все новые и новые клетки - прямо по Маяковскому: "Послушайте! Ведь, если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?" Но даже при сверхмощном сигнале индуктора немалая часть клеток все-таки оставалась к нему нечувствительна и продолжала свою обычную работу, прекращение которой - гибель для организма.
... Естественно,, что за последние годы сотрудниками лаборатории установлены еще и другие закономерности индукции ферментных процессов в клеточных ансамблях. Был изучен механизм деиндукции - возврата к исходному, к будничному уровню активности биохимических превращений. Оказалось, что повседневную будничную работу выполняют совершенно другие по химической структуре, очень "прочные" ферменты. А те, что создаются в аварийной ситуации для чрезвычайных дел, легко разрушаются по их окончании.
... И была уловлена неравноправность, неравнозначность, неравноценность разных генетических индукторов, если им приходится конкурировать друг с другом.
Вот, например, введенный прежде кортизола фенобарбитал - люминал по-старому - резко ослабляет чувствительность клеток к сигналам гормона. Но зато стоит сначала ввести кортизол, и снотворное лекарство утрачивает возможность вызвать синтез ферментов, чья обязанность его обезвредить. И тогда организм оказывается вовсе не защищенным от токсических побочных эффектов препарата! А это уже неприятный подарок медикам - проблема, которая требует тщательного пересмотра допустимости сочетания меж собой многих широко применяемых медикаментов. Да к тому же и еще более строгого соотнесения приема лекарств с приемом пищи и комбинации различных пищевых продуктов. Ведь из некоторых лабораторий объявились экспериментальные свидетельства о способности глюкозы как индуктора парализовать индукцию, которую должны вызывать аминокислоты. И уж если эта дама разбудит инсулин, чтобы тот через соответствующий ген загрузил клетки ее приемом, то аминокислоты - слагаемые белковой пищи - впрок не пойдут! (Недаром моя бабушка еще лет сорок назад запрещала есть конфеты перед обедом.)
Вот такую подачку сбросила медицине со своего барского стола суровая теоретическая биология, как она это уже не раз делала в нашем веке.
... А повествование пора кончать. Должен сказать напоследок, что нет для писателя работы более неблагодарной, чем документальные сочинения: приходится все время себе напоминать, что и то надо, и это надо. И еще держать в строгой узде воображение, выдумку. И не подобает допускать вольностей.
И кстати, вот что еще: в рассказе то и дело возникало слово "теория". Но должен предупредить, сам Рудольф Иосифович избегает произносить его, предпочитает ему другие: "предположения", "догадки", даже "спекуляции". (В науке этот термин несет не современно-уголовный, а свой исконный латинский смысл "наблюдения, отражения, представления".) А после того как он докладывал свои факты и мысли очень строгому международному симпозиуму по проблеме индукции, устроенному в сказочном месте - на острове Капри, в нависшей над синим Средиземным морем вилле с оперным названием Мала- парте, он назвал все это даже "итальянскими сказками". Право, Рудольф Иосифович чем-то похож на Фольборта, своего учителя, не боявшегося и над самим собой иронизировать. Чувство юмора к самому себе - великое для любого человека чувство, а для ученого, для художника - особенно. Оно спасает от самоуверенности. А нет ничего опаснее, чем она. Ведь она может сделать исследователя поистине несчастным от слепого "всезнания".
Те, кто знает историю науки, помнят, как преображались и даже рассыпались самые, казалось бы, прочные теории, когда новое орудие познания позволяло по-иному всмотреться в Природу.
...Есть в Ленинграде очень серьезный ученый и очень ироничный человек - Владимир Яковлевич Александров, создатель целой области исследования - цитоэкологии, экологии клетки. Салганик не раз слышал - по правде говоря, я тоже слышал,- как Владимир Яковлевич приговаривал во время специальных докладов и дискуссий:
- Клетки, наверно, над нами смеются, слушая наши о них рассуждения!..
|
ПОИСК:
|
© GENETIKU.RU, 2013-2022
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://genetiku.ru/ 'Генетика'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://genetiku.ru/ 'Генетика'