
Повесть четвертая. Честь и место, или диссертация о пользе научных ошибок
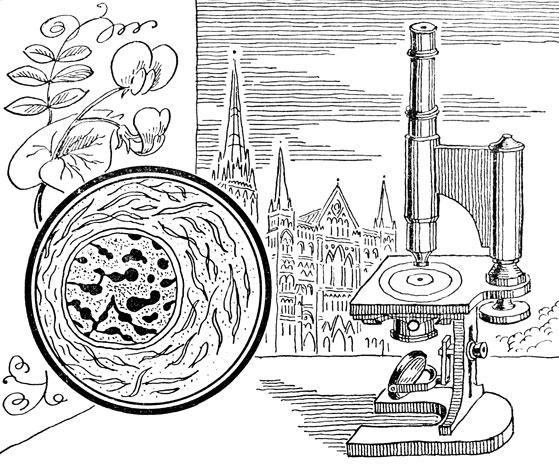
Честь и место, или диссертация о пользе научных ошибок
Науку, господа, принято сравнивать с постройкой. Как здесь, так и там трудится много народа, и здесь и там происходит разделение труда. Кто составляет план, одни кладут фундамент, другие возводят стены и так далее..." - так сказал Иван Павлов - истовый рабочий науки, сумевший и экспериментом и теорией перевернуть в Природе не-подъемные, казалось бы, пласты неведомого.
У по-настоящему великих естествоиспытателей - у Дарвина, Вирхова, Менделя, Менделеева, Павлова, Кольцова - оно было очень острым, вот такое "артельное" ощущение науки, из века в век созидаемой "всем миром".
Это неудачливым ученым приходилось утверждаться тем, что уличать и попрекать предшественников и современников - желательно познаменитее - за то, будто они то-то не сделали, а того-то не поняли. Еще Энгельс установил такую закономерность, сравнивая писания посредственного философа Дюринга, поносившего на все корки и Шеллинга, и Гегеля, и Дарвина, и Маркса, и суждения подлинно великого Дарвина, который умел ценить каждую каплю пота своих предшественников, каким науке доставалось знание - пусть часто неполное и неточное, и даже искаженное ложным ходом мысли.
1
Тридцатые годы XIX века оказались для биологии переломными. Спустя много лет - уже в конце столетия - знаменитый анатом Фридрих Якоб Генле так живописал время, породившее клеточную теорию:
"Это были счастливые дни, которым могло бы позавидовать теперешнее поколение,- ведь тогда из мастерских Плесля в Вене и Пистора и Шика в Берлине вышли первые хорошие, удобные микроскопы, которые можно было приобрести из сбережений студенческой семестровой получки,- счастливые дни, когда еще было возможно посредством соскоба лезвием скальпеля или посредством препаровальной иглы делать фундаментальные открытия о животных оболочках".
Да, именно такими орудиями его друг Теодор Шванн разделял нервные волокна и открыл их "шванновскую оболочку", ее "шванновские ядра" и "швапновские клетки". А сам Генле препарировал ими слизистые и серозные оболочки, выстилающие дыхательные пути и разные отделы пищеварительного тракта,- ведь он сумел рассмотреть, описать и классифицировать многие виды клеток эпителия.
И все это - даже не окрашивая препаратов, поскольку такими хитростями наука в городе Берлине еще не владела. Она ими тогда владела только в Бреславле!
А новые микроскопы - "первые хорошие, удобные", появление которых Генле не случайно поставил впереди всех событий своей науки тех дней, заслуженно прославили своих создателей на всю Тогдашнюю ученую Европу. В этих приборах в изрядной мере были устранены и цветные и объемные искажения, а их полезное увеличение достигало 1200 раз. И не появись эта новая оптика - не состоялся бы замечательный шаг познания!
Она родилась как итог многих десятилетий варки и шлифовки стекла и мысли, в которую вложили свою лепту и петербургский академик Эйлер - это он первым рассчитал, что, комбинируя линзы из разных сортов стекла, из флингласса и кронгласса, по-разному рассеивающих цвета, можно устранить хроматическую аберрацию,- и мюнхенский физик Фраунгофер, и парижанин Селиг. Несть им числа - "высоколобым физикам", а более - мастерам, искусным и хорошо знавшим науку, но еще одно имя должно быть названо всенепременно - имя итальянского ботаника и физика Джованни Амичи. Это у него тогдашняя оптическая техника позаимствовала плоскую фронтальную линзу и "метод накопления ошибок" нижними линзами объектива, чтобы устранять их верхними линзами и в итоге резко ослаблять объемные искажения,- и Пистор, и Шик, и Плесль, и Шевалье сочли за благо перенять. И другие тоже.
Вот только в словах насчет дешевизны микроскопов что-то у Генле не так. Во всяком случае, в архиве Бреславльского университета сохранилась многолетняя переписка тамошнего профессора Яна Евангелиста Пуркине с прусскими правительственными чиновниками. Замечательный физиолог и анатом, один из основателей гистологии, науки о микроскопическом строении тканей животных, долго выпрашивал - и все-таки выпросил - ассигнования университету, а именно его кафедре, суммы в двести талеров на покупку "большого" Плеслева микроскопа, поскольку самому купить его было не по карману - микроскоп стоил пятую часть довольно тощего годового профессорского жалованья тех дней. А ведь была еще квартира, за которую полагалось деньги платить, и была семья!..
Правда, годом-двумя позднее приборы могли и подешеветь, да верно начинающие ученые и выбирали-то не самые шикарные. А к тому же отец у Шванна, например, был известный дюссельдорфский ювелир и владелец типографии, и сам Теодор Шванн был человек без потребностей - безо всех, кроме потребности исследовать.
Правда, в конце XIX века появились и еще лучшие микроскопы - их создали Аббэ и Цейс, но и те были хороши. Плеслева оптика позволила Яну Пуркине и его Ученикам описать многие разновидности клеток животных и человека, а потому именно Пуркине - уже пятидесятилетний, маститый, эрудированнейший, увлеченный поиском безраздельно,- пожалуй, более других крупных биологов тех дней был подготовлен к тому, чтобы создать клеточную теорию. Право же, куда более, чем двадцатисемилетний препаратор Берлинского анатомического музея Теодор Шванн, у которого не то что собственной научной школы, а и своей кафедры-то еще не было!..
Две физиологические школы, которые на самом деле были и физиологическими, и гистологическими, и анатомическими, гремели в те дни в европейской науке: Берлинская - Иоганнеса Мюллера, учителя Генле и Шванна, и Бреславльская - Яна Пуркине. И у обоих лидеров в их невероятно широких интересах, охватывавших почти всю тогдашнюю биологию, на первом месте было исследование тонкого строения тканей животных и человека и распознание функций элементов, их составляющих.
Ян Евангелиста Пуркине первым - еще в 1825 году - описывает клеточное ядро: правда, ядро птичьего яйца - оплодотворенной яйцеклетки. Он называет его "зародышевым пузырьком" и закрепляет за ним функцию "производящей силы" яйца. Именно его сообщение заставило Карла Бэра искать и найти ядро в яйцеклетке млекопитающего, которую он как раз год спустя открыл. А ядро растительной клетки было по-настоящему распознано в 1832 году английским ботаником Робертом Броуном, который придумал само название "нуклеус" - "ядро" и первым заявил, что оно - обычная составная часть любой клетки, имеющая некое существенное значение для ее жизни.
И наконец, спустя еще четыре года - в 1836-м - Габриель Валентин, блистательный ученик Пуркине, открывает ядро клеток животного - клеток эпителия конъюнктивы, соединительной оболочки глаза, и указывает, что этот "нуклеус" состоит из мелкозернистой субстанции, но, кроме того, содержит внутри "своего рода второе ядро" - то есть ядрышко. С этого момента ядро будут высматривать и находить в клетках всех тканей.
...Семь лет будущий знаменитый Бреславльский физиологический институт просуществовал в профессорской квартире Пуркине. Здесь обретались все: и глава школы, и его семья, и двухсотталеровый большой микроскоп, и студенты-медики, зараженные лихорадкой микроскопии. Это в той квартире студент Ошатц смастерил механизм для разрезания тканей на сверхтонкие лепестки - "микротом", как назвал его учитель. И там же сам Пуркине сконструировал "компрессориум", то есть "раздавливатель" - этим аппаратом из тканей выдавливались отдельные их элементы (считалось, что так они будут лучше видны). И еще Пуркине изыскивал методики просветления ткани - одни из первых. И это он первым применил окраску клеток для более четкого выявления их структуры. Во всех гистологических книгах значатся "клетки Пуркинье" и "волокна Пуркинье" - полтора века в научной литературе было принято писать и читать на романогерманский лад чешскую фамилию замечательного биолога (а ведь он был к тому же еще одним из вождей движения за возрождение культуры своего народа!). Но что там клетки мозжечка, имеющие особенную форму, или волокна, носящие его имя,- ведь с таким же успехом это имя могли бы носить и железистые клетки желудка, и клетки костной ткани, и клетки, образующие вещество зубов! Ведь из того же "института на квартире", который только в 1839 году получит все-таки казенную крышу в небольшом здании при университете, вышли работы, составившие лицо замечательной Бреславльской школы,- работы Вендта и Дейча, Рашкова и Валентина, Каспера и Палицкого и многих других, с кем вместе, не разгибаясь, непременно работал с компрессориумом и микроскопом сам Пуркине. Работал и думать не думал давать свое имя ни их статьям, ни клеткам, которые ученики открывали в хряще и коже, в мышце матки и мышце сердца животных. Он всего лишь диктовал им ход работы да всего лишь проводил их за руку по терниям новорожденных гистологических методик. И жадно приникал к окуляру, чтобы первым или хотя бы вторым увидеть, что там - в новом препарате, который тогда почти неминуемо таил в себе открытие!..
Недаром ученые-современники, цитируя работы Бреславльской школы, в ссылках обычно ставили на первое место имя ее главы, которое не значилось под названиями статей: "Пуркинье-Рашков", "Пуркинье-Мекауэр".
Все шло к тому, чтоб родилась теория. Факты копились. Серьезные зоологи и ботаники уже осязали, что ткани растений и животных должны состоять из очень напоминающих друг друга элементарных структур. Да и сама эта идея не раз формулировалась в сочинениях - философских и биологических. Трудно сказать точно, кто выдвинул ее первым. Во всяком случае, еще в 1752 году Вольтер, верно, с чьих-то слов обронил в "Микромегасе" фразу: "Когда Лёвенгук и Гартсёкер впервые увидели или сочли, что увидели, клеточки, из которых мы состоим..." А семь лет спустя петербургский академик Каспар Вольф даже объяснил, что клетки в молодых побегах растений возникают из капель жидкого или полужидкого вещества, выпадающего из более старых частей.
Воздержимся и не будем называть эти суждения теорией.
Но спустя полвека, еще в 1809 году, тридцатилетний Лоренц Окен, врач, биолог и философ, иенский профессор-вольнодумец, любимец студентов и бельмо на глазу любого начальства, в трехтомном своем "Учебнике натурфилософии", состоявшем из 3738 чеканных параграфов-постулатов, уже провозгласил вот что:
§ 819 Принцип жизни есть гальванизм. Не существует никакой другой жизненной силы кроме гальванической полярности...
§ 837 ...Основным веществом органического мира является углерод. (Он сам подчеркнул это слово.)
§ 838 ... Углерод, слившийся с водой и воздухом, есть первичная слизь...
§ 840 Все органическое произошло из первичной слизи, оно есть не что иное, как принявшая различные формы первичная слизь.
§ 841 Первичная слизь, из которой произошло все органическое, есть морская слизь.."
Припомним, что в те дни, за пятнадцать лет до того, как Фридрих Велер создал в пробирке первое из рукотворных органических веществ - мочевину, само слово "органическое" было равноценно слову "живое"!.. Смотрите-ка, на что он замахнулся, Лоренц Окен,- на материалистическое объяснение происхождения жизни!
§ 843 Морская слизь возникла вследствие развития планеты.
§ 844 Морская слизь первоначально возникла под влиянием света... (!!!)
§ 848 Все живое - из моря, и нет жизни, рожденной сушею..."
А дальше еще удивительней:
§ 915 Первичная слизь образует бесконечное множество органических точек...
§ 922 Первичные органические точки - это пузырьки...
§ 923 Слизистый первичный пузырек называется инфузорией...
§ 928 Раз основная органическая масса состоит из инфузорий, то, стало быть, и весь органический мир должен происходить из инфузорий. Растения и животные могут быть лишь метаморфозами инфузорий...
§ 931 Организмы - это синтез инфузорий... И потому они не намечены вполне уже с самого начала, не преформированы, а представляют собой инфузориальные пузырьки, которые, различно комбинируясь, принимают различные формы и вырастают в высшие организмы".
Подставьте-ка в этих тезисах на место слов "первичная слизь" слова "коацерваты" или "белки и нуклеиновые кислоты", вместо слов "инфузория" и "пузырек" - слово "клетка". Еще замените старинный термин "гальваническая полярность" другим, поновее - например, "электростатические связи" или "энергия макроэргических химических связей", и все зазвучит современнейшим образом!
Теория ли это? Да, теория - вот только Окен не считал нужным доказывать в этом учебнике ее положения фактами. Он их провозглашал как истины - и все! Правда, кроме курса философии природы он в Иенском университете еще читал всего лишь общую естественную историю и ботанику, и зоологию, и сравнительную анатомию, а также физиологию животных и человека. Факты он излагал студентам в тех курсах, читателям - в других книгах, а здесь считал нужным выводить только общие схемы: происхождение Вселенной по Канту, происхождение и эволюция жизни по Окену...
Но в 1809-м ботаники еще даже недоспорили, разделены ли соседние клетки растения общей перегородкой или каждая имеет собственную оболочку,- это будет окончательно доказано спустя три года. До создания новых микроскопов оставалось два десятка лет, студент Пуркине еще упивался океновыми сочинениями, и Мюллер тоже еще не помышлял о своей научной школе, он пока пошел в первый класс гимназии - словом, до подробных атласов микроскопической анатомии тканей животных и человека было еще далеко. Увидены были только крупные клетки жировой клетчатки, клетки кожи и крови. Клеточное строение нервной ткани, хряща, кости, мышечного волокна еще не могло быть постигнуто.
...Имя Лоренца Окена всегда ставится рядом с именем Другого натурфилософа - Фридриха Вильгельма Шеллинга, его учителя. В начале XIX века они оба были почитаемы, да к тому же какими людьми! Карлом Бэром и Яном Пуркине, Иоганнесом Мюллером и Данилой Велланским, одним из первых русских физиологов, Шоффруа Сент-Илером и Петром Чаадаевым, Виссарионом Белинским и Александром Герценом.
Трудные, сложные абстрактные теоретизирования Канта и Фихте, классиков немецкой идеалистической философии, Шеллинг перевел в яркую художественную, чувственную систему философии Природы, которая, по его утверждению, и есть "видимый дух". Но Природа объективна, утверждал этот философ, сам себя называвший идеалистом. Она живет в непрерывном развитии, в преодолении противоречий. Она - свой собственный продукт, из самой себя организующее целое, а потому понимать ее следует, ища объяснение всему, что совершается в ней, из принципов, которые заключены в ней самой. Высшая точка ее развития - человеческое сознание, оно и есть Природа, познающая сама себя.
Вот как Шеллинг изложил однажды свое мироощущение:
Одну религию считаю я правдивой, Ту, что живет в камнях и мхах, в красивой Расдветности дерев; повсюду и всегда Стремится к свету, в высь, и вечно молода, В провалах бездн и в высотах бескрайных Нам открывает лик в извечных знаках тайных. Она подъемлется до силы размышленья, Где мир родится вновь, где духа воскресенье. Все, все - единый пульс, единое дыханье, Игра препятствий, пляска порыванья...
Да, да, в философских и научных построениях Шеллинга и Окена была тьма идеалистической шелухи и совершенно нелепых, смешных для нынешнего ума построений, а Шеллинг под конец дней своих и вовсе ударился в мистику - все так. Но сколь чутко они уловили веяние времени!
"...Как выпущенные на свободу школьники, целый день протомившиеся в душных классах под гнетом вокабул и цифр, вырвались ученики г-на Шеллинга па лоно природы, в благоуханную, залитую солнцем реальность, шумно ликуя, кувыркаясь и неистовствуя вовсю",- писал о тогдашнем торжестве натурфилософии Генрих Гейне.
Эти философы жадно улавливали, преломляли и осмысливали тогдашнюю научную информацию. А сам Окен прилежно и умело работал с микроскопом; он очень серьезно занимался эмбриологическими исследованиями - и с немалыми достижениями. Он же описал развитие кишечной трубки у зародыша и сформулировал теорию развития черепа из позвонков (независимо от великого Гёте, который сам был Фауст во плоти - великий поэт, серьезный естествоиспытатель и крупный натурфилософ, право же, не меньшего масштаба, чем Окен).
Не случайно их воззрения были замечательны ощущением единства принципов, какими работает Природа, кстати, очень характерным для крупных естествоиспытателей. Вот почему из-под их фантастических словесных построений порой вдруг выплескивались удивительные научно- философские пророчества. Шеллинг предвосхитил открытие взаимодействия электрических и магнитных сил - спустя двадцать лет после выхода его "Всеобщей дедукции динамического процесса" датский физик Ганс Христиан Эрстед, оттолкнувшись от Шеллингова философского предсказания, объяснил только что им открытое явление электромагнетизма. А Окен умозрительно, лишь обобщив отрывочные, разрозненные факты, накапливавшиеся тогдашней биологией, угадал контуры клеточной теории и теории происхождения жизни!
Недаром Фридрих Энгельс заметил в предисловии к "Анти-Дюрингу":
"Гораздо легче вместе со скудоумной посредственностью, на манер Карла Фогта, обрушиваться на старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение..."
И дальше расставил все на места с пронзительной четкостью: "Натурфилософы находятся в таком же отношении к сознательно-диалектическому естествознанию, в каком утописты находятся к современному коммунизму".
2
Но естествоиспытатели "счастливых дней" относились и натурфилософии гораздо суровей. Например, Иоганнес Мюллер, смолоду ею побаловавшийся, если где-то у кого- То обнаруживал свои юношеские статьи, немедленно их сн"игал. Только точное наблюдение! Только эксперимент - никаких гипотез!
Впрочем держаться этого символа веры было не просто - Маттиас Шлейден тому примером. Но сперва не о нем.
...В 1830 году двадцатишестилетний берлинский врач Франц Мейен публикует солидный труд "Фитотомия" ("Анатомия растений") -образец серьезного исследовательского труда.
Не удивляйтесь тому, что Мейен тоже врач: биологических факультетов в университетах еще и в заводе не было, были только медицинские, а потому почти все тогдашние биологи, в том числе и ботаники, были врачами.
Не удивляйтесь и тому, что фундаментальный свод написан двадцатишестилетним человеком,- почти все персонажи этой повести завидно молоды, за исключением разве Пуркине. Первое экспериментальное исследование студент Мейен опубликовал в 18 лет, а "Фитотомия" - уже его третье и совершенно зрелое сочинение, автор в нем не только сообщает о своих наблюдениях и выводах - он пишет и о своих ошибках и о сомнениях. Потом умолкнет на пять лет - их он проведет в экспедициях, зато, воротясь, издаст сразу серию основательных книг, среди них трехтомную "Новую физиологию растений".
И словно сгорит от этой лихорадочной работы - последний том вышел, когда ему должно было исполниться тридцать шесть и, увы, не исполнилось.
Но - к "Фитотомии". В ней Мейен сформулировал четко обоснованную концепцию клеточного строения растений, складывающуюся в его науке. Вот его заключения - наиболее для нас важные:
"Растительные клетки,- подытоживал Мейен,- бывают или одиночными, так что каждая представляет собой индивид, как это встречается у водорослей и грибов, или же, образуя более высоко организованное растение, они соединяются в более или менее значительные массы..."
Не правда ли, этот вывод четок, а главное, он дополняется очень важным суждением - вот таким:
"Каждая клетка представляет собой замкнутое целое: она сама питается, преобразуется и перерабатывает сырой материал в весьма значительные вещества и образования".
Все тщательно подкреплено фактами: Мейену удалось увидеть клеточное строение почти всех тканей растения за малым исключением. Увы, он не смог в своих наблюдениях подтвердить, что водоносные сосуды растительной ткани тоже формируются из измененных клеток - факт который еще в 1805 году установил ботаник из Бонна Лудольф Тревиранус, чьи работы Мейену были известны. Ну что ж, увидеть это ему не позволила методика, которой он пользовался для приготовления препаратов, и "простой микроскоп" - попросту сильная лупа, с которой он работал. Но какие-то считанные месяцы спустя формирование волокнистой ткани сосудов из клеточных элементов заново опишет Гуго фон Моль, тоже двадцатишестилетний профессор из Берна, блестящий микроскопист, по чьему руководству, вскоре им написанному, выучатся десятки цитологов.
Зато Мейен открыл многие компоненты растительной клетки, прежде него не отмеченные,- хлорофилльные и крахмальные зерна, вакуоли и кристаллы, в нее включаемые. И клеточное содержимое, то есть протоплазму,- правда, такой термин еще не существует - он представлял себе как изменчивый динамичный, деятельный субстрат, ассимилирующий приносимые жидкой средой вещества - сам себя строящий из них.
Только надо избежать преувеличений - Мейен, конечно же, видел бытие клетки совсем не таким, каким оно предстает глазам его сегодняшних коллег, расписанное цепочками биохимических реакций. И все же пусть в очень грубой схеме, но он понял, что скопления крахмала и хлорофилла в клетке - результат, отражение кардинальных процессов ее жизнедеятельности. А ведь среди немалого числа биологов еще бытовало убеждение, что клеточная ткань - это, так сказать, живая плоть, пронизанная пустотами. То есть что клетка - это всего лишь полость, окруженная стенками. И теперь Мейен, да и не он один, а и Гуго фон Моль, и французский академик Тюрпен своими фактами утверждали в ботанике новое представление о клетке растения как о деятельной физиологической индивидуальности.
Вам не кажется, что это уже серьезный пабросок теории?
Но из книги в книгу уже более ста лет переходит Утверждение, что клеточную теорию сформулировали Шлейден и Шванн. Шлейден - для растений, Шванн - Для животных. Историки науки только в ужасе руками Оплескивают, читая это в великолепных современнейших Руководствах по цитологии и общей биологии.
Правда, еще из книги в книгу переходит и мудрая фраза Рудольфа Вирхова: "Шванн стоял на плечах Шлейдена". А с Вирховом историки согласны. Истинно так: молодому анатому Теодору Шванну, подлинному родителю клеточной теории, ботаник Маттиас Шлейден оказал величайшую услугу - он подарил ему блестящую догадку, а вместе с ней ярчайшую ошибку, но именно ту, что и была тогда нужна для великого дела Шванна.
Впрочем, Шванн не считал ее ошибкой.
...Сорок лет спустя Льежский университет праздновал юбилей своего профессора анатомии - сорокалетие его педагогической деятельности. (Шванн занял университетскую кафедру в год выхода своего знаменитого труда.) И естественно, юбиляра на торжестве попросили вспомнить о том, как пришел он к самому важному свершению в своей научной жизни.
Вот его рассказ.
"...Однажды, когда я обедал с господином Шлейденом,- начал он без лишних хитростей,- этот знаменитый ботаник указал мне на важную роль, которую ядро играет в развитии растительных клеток. Я тотчас припомнил, что видел подобный же орган в клетках спинной струны и в тот же момент понял крайнюю важность, которую будет иметь мое открытие, если я сумею показать, что в клетках спинной струны это ядро играет ту же роль, как и ядро у растений в развитии их клеток".
Вот видите, как просто возникают у гениев великие мысли. Особенно если гений не слишком хорошо знаком с новейшими фактами соседней да и своей науки. Шванну все было, внове: и ядра клеток растений, которым он доселе внимания не уделял,- он же зоолог, а не ботаник,- и "подобный же орган" в клетках животного, буквально "вчера" им обнаруженный.
Правда, месяц назад Ян Пуркине выступил в Праге с важнейшим докладом: он подвел в нем итог многолетним исследованиям своей школы - и не случайно решил это сделать именно на родине.
Он был сух и строг в словах. А говоря об элементах тканей животных, избегал термина "клетка". Видите ли он всегда считал для них более правильными другие названия: "шарики" или "зернышки, содержащие ядра" Ядро, подчеркивал он, такой же постоянный элемент "зернышек", как и растительных клеток. Но у растительной клетки есть оболочка, за ней полость (с работами ботаников последнего времени гистологи не очень пристально знакомы). А у "зернышек" и "шариков" животных - оболочка не видна. Это сплошь живой материал, живая протоплазма с ядром внутри.
Пуркине педантично перечислял отличия "шариков" или "зернышек" из разных тканей и друг от друга, и от растительных клеток.
Он совершил и следующий шаг. "Зернистая основная форма,- сказал он в докладе,- ...обнаруживает аналогию с растениями, которые, как известно, почти целиком составлены из зернышек или клеток... Как и здесь, каждая клетка имеет свою vita propria* и из общих соков приготовляет свое специфическое содержимое..." И далее он делает вывод, что более точное изучение строения тканей и физиологии растений прольет новый свет также и на представления о строении и деятельности организмов животных.
* (Собственную жизнь (лат.).)
Так почему же не Пуркине признан создателем научной клеточной теории? Неужели же замечательному исследователю отказано в авторстве на нее только потому, что вместо одного термина он использовал другой - не "клетки", а "зернышки"?..
Увы! Ян Евангелиста Пуркине считает, что единую теорию клеточного строения и животных и растительных организмов выводить нельзя - граница между двумя царствами живого мира для него нерушима.
Проследить аналогию, сходство, подобие в строении тех и других - допустимо. А вот устанавливать гомологию, полное соответствие, единство его принципа, единство происхождения - некорректно, неправильно. И он прямо так и напишет спустя два года в своей рецензии на будущую книгу Теодора Шванна.
Но в день памятного обеда со Шлейденом доклад, читанный Пуркине в Праге месяц назад, еще не увидел света! То, что было известно бреславльским гистологам доподлинно, для Шванна было заманчивой догадкой: ядра Должны быть во всех животных клетках! Догадкой собственной - отчего и особенно дорогой. А суждение Шлейдена о роли ядра, им будто бы уже доказанной,- истинным озарением!
Идея, что структуры и процессы в тех и других клетках должны быть одинаковы, была пронзительна. Возражения, которые Пуркине выскажет через два года, в голову не пришли и не помешали. И Шванну невтерпеж стало поскорей утвердиться в своей мысли или отказаться от нее. Оттого он сейчас же предложил господину Шлейдену немедля, с обеда отправиться, по его словам, будто бы в анатомический театр. Там он показал ботанику в препарате ядра клеток спинной струны головастика - зачатка лягушиного спинного мозга, а Шлейден сразу установил их полное сходство с ядрами растений.
"...С этого момента,- заключил Шванн свое повествование,- все мои усилия были направлены к отысканию доказательств предсуществования ядра клетки".
Создатель теории - весь как есть в этом своем рассказике: милый, скромный, добрый, жаждущий сказать как можно больше лестного о своем с того замечательного дня сердечном друге, чье суждение дало его мысли столь важный толчок. Растаяв в юбилейном зное, он даже позабыл, что в тот далекий день Шлейден не только не был знаменитым ботаником, но был просто совсем никому не известным начинающим ученым - лишь первая его ботаническая статья только еще была им отдана в журнал "Архив анатомии, физиологии и научной медицины", который издавал Иоганнес Мюллер. И то ли сам Мюллер, то ли еще кто-то из коллег, помогавших патрону в журнальном деле, и сказал Шванну, что в этой статье содержатся любопытные соображения о строении клеток, которым Шванн как раз в те дни был крайне озабочен. Ну вы я"е знаете - ничто так не способно создать благоприятнейшую атмосферу для доверительной беседы, чем приглашение на дружеский обед!..
А случился этот их памятный обед в октябре 1837 года и, судя по всему, в "ресторанчике менее чем второго ранга" - так аттестовал его Генле,- что был на углу берлинских Фридрихштрассе и Моренштрассе и где через коридорчик от зала и кухни сдавались меблированные комнаты, как издавна в многих трактирах. Но в том великое отличие данного заведения от прочих - одна из этих его комнатенок служила и спальней, и кабинетом самому Теодору Шванну все пять лет со дня его приезда в Берлин из Бонна и до дня его отбытия в Бельгию в связи с избранием на кафедру.
Кстати, когда шестидесятивосьмилетним профессором оп обо всем этом рассказывал в Льеже на юбилее, то, видно, из-за парадности обстановки специально допустил одну неточность - к чему, подумайте, было ему сорок лет назад с того обеда тащить Шлейдена за двенадцать кварталов от Моренштрассе на другой берег Шпрее в анатомический театр, когда препараты со срезами ткани спинной струны головастика и микроскоп, в котором собеседнику предстояло рассмотреть ядра животных клеток, всегда у Шванна были именно в этой узкой и сумрачной комнате - всего через коридорчик от зала кухмистерского заведения, где они обедали! Наверно, это память о том, сколь была его комната неприглядна, и подтолкнула переместить финал рассказываемого события в анатомический музей. Ведь Шванн всегда его считал неуютным для работы местом - там постоянно толклись учившиеся анатомии и гистологии студенты и корпели над всевозможными научными делами другие сотрудники Иоганнеса Мюллера, год от году прибавлявшиеся,- либо тоже еще студенты, либо окончившие курс диссертанты. И поскольку гистологическое дело любит тишину, то Шванн, по свидетельству друзей, и превратил свою берлогу в лабораторию и не покидал ее по многу дней подряд, сократив при этом всенепременные пути от постели к рабочему столу и от стола обеденного к нему же с двенадцати кварталов до нескольких шагов в день, да еще без необходимости вылезать из уютного шлафрока с истертым меховым воротником.
Здесь все было под рукой: и микроскоп, и препараты, и книги, и нехитрый инструмент, и бесчисленные склянки с кислотами, щелочами, йодом, спиртом, канадским бальзамом, которыми было принято обрабатывать исследуемую ткань прямо на предметном столике микроскопа, чтобы разрыхлить ее или просветлить по ходу наблюдения.
Здесь они и прошли - главнейшие пять лет жизни Теодора Шванна.
3
...В 1833-м Иоганнес Мюллер, его учитель еще по Боннскому университету, ошеломил прусского министра просвещения письмом - он в нем предложил назначить именно себя, Мюллера, на освободившуюся в столице ка- Федру анатомии. Подобающие случаю почтительные фразы перемежались в письме неприлично деловыми выкладками. Тридцатидвухлетний ученый перечислял задуманные?
им такие-то и такие-то исследования, весьма разнообразные - анатомические, физиологические, эмбриологические,- и доказывал, что осуществить их можно лишь в Берлинском университете, ибо столичный располагает для этого большими возможностями, чем провинциальный Боннский. А эти исследования, утверждал он, на многие годы определят "тот дух, который могут источать великолепные институты Берлина", чем и будут прославлены университет и наука его отечества (запомним, что в Германии тогда даже крошечную лабораторию называли институтом) .
"Быть может, раздадутся голоса,- заключил Мюллер,- указывающие на молодость, но именно свою молодость, преисполненную трудами и опытом, кладу я на весы, противопоставляя ее старости".
Но прибавил, что, кроме него самого, есть еще один поистине достойный кандидат на эту кафедру - патологоанатом Меккель.
Удивительным было письмо. Не менее удивительным - назначение: министр отдал кафедру Мюллеру. Молодому - это действительно считалось крупным недостатком. Незнатному - он был сыном сапожника. Голи перекатной - у ученого никогда не водилось гроша за душой (впрочем, как у многих тогдашних ученых - как у Гегеля, например).
И отправились в Берлин за учителем его вчерашние боннские студенты - Шванн, Генле, Ремак, Мишер. Отправились, твердо зная, что там их ничто не ждет, кроме дела. О профессуре им рано было даже заикаться. Должностей прозекторов или ассистентов при кафедре еще для них не было. А новоиспеченных докторов медицины, жаждущих заработка, в Берлине своих хватало, и оттого многие месяцы, пока возникли жалкие лаборантские жалованья для Генле и Шванна, а Ремак приобрел репутацию отличного невропатолога, их родителям приходилось по-прежнему раскошеливаться на "семестровые студенческие получки".
Зато они были при Иоганнесе Мюллере - человеке с лицом античного бога и душою лирического героя романтической повести. "Он действовал, как Гёте выражается о красоте - одним своим присутствием",- ну как было но сказать такие торжественные слова другому его ученику, физиологу Эмилю Дюбуа-Реймону, если Мюллер, своими руками и глазами открывший десятки фундаментальны фактов и закономерностей чуть ли не во всех разделах тогдашней биологии, был зачинателем и вдохновителем еще большего числа работ, в итоге которых свершали открытия его ученики, ставшие в науке еще более великими, чем он сам!..
Вот кто еще был среди виднейших из них - гениальные Герман Гельмгольц и Рудольф Вирхов, Эрнст Геккель и Николай Иванович Пирогов, который стал величайшим хирургом именно оттого, что сделался великим анатомом, а в этой науке свой путь он начал в стенах анатомического музея, где царствовал Мюллер.
"Как на солнце, неловко было новичку смотреть прямо в лицо на Мюллера",- вот что написал о нем Пирогов в воспоминаниях. И кстати, в них он превыше всего поставил, что направление исканий, заданное его учителем, было основано на микроскопических исследованиях, на истории развития, на точном физиологическом опыте и химическом анализе.
Но не о Мюллере это повествование, не о его открытиях и не о его ошибках - он был сын своего времени, верил в бога и допускал существование "жизненной силы"! И в некоторых воспоминаниях о нем пересказан бродивший спустя четверть века слух, будто бы тогда, на склоне жизни, он совершил некое открытие, опровергнувшее его убеждение в существовании "божественного начала", а крах веры оказался настолько тягостен, что Мюллер якобы принял яд...
Нам важно здесь одно, что он одарил Шванна работой, им самим начатой,- идеи и грядущие открытия Мюллер рассыпал ученикам поистине с щедростью солнца. ^В Именно те пять лет, которые работал с ним Шванн, и были более чем всему остальному посвящены микроскопическому строению тканей животных - над этим работали все тогдашние мюллеровские ученики. Во многом они повторяли исследования школы Пуркине, но для науки это не грех, ибо всякое повторное исследование, если оно поставлено умно и умело, может принести новое знание о том, что, казалось бы, уже познано, и они в итоге опередили Бреславльскую школу.
Генле в те годы блестяще исследует эпителиальные ткани. Кстати, это именно он и нарушил осторожный обычай тогдашних гистологов искать какие-то неопределенные названия для элементов, составляющих ткани животных, 11 твердо назвал животную клетку - клеткой.
А Ремак докажет, что нервное волокно - это отросток нервной клетки. Поздней он сделает еще более фундаментальное открытие, но речь о нем впереди.
Иоганн Мишер изучит костную ткань - правда, его исследование уступает бреславльским работам Пуркине.
А сам Мюллер изучит хрящевую ткань и еще откроет, что ткань спинной струны построена из клеток. Ядер он в них не сумеет выявить, хотя в других животных клетках ядра обнаружил,- здесь их увидит Шванн, который сперва занимался в Берлине другими делами. Многими.
Например, физиологией пищеварения - к этому времени Шванн всего-навсего открыл в желудочном соке его химическое "действующее начало", фермент, которому оп даст имя "пепсин". И успел установить - прежде Пастера,- что брожение вызывают дрожжевые грибки (он просто их описал как отдельный вид микроорганизмов). Еще он сумел разделить под микроскопом препаровальной иглой поперечно-полосатую мышцу на первичные мышечные волокна и начал исследовать механизм мышечного сокращения, и пытался описать его на языке математики. Он, наконец, разделил нерв на волокна - те, которые Ремак потом признает клеточными отростками, и еще открыл уже упомянутые "шванновские оболочки" и "шванновские клетки".
А учитель, "отдав на откуп" клетки зачатка спинного мозга, принялся исследовать микроскопическое строение нераковой опухоли молочной железы - позднее эту работу он передаст Вирхову. Таков был его обычай - поставить задачу и дать делу толчок.
"Кому пришлось быть в соприкосновении с человеком первой величины, у того на всю жизнь изменяется духовный масштаб, и он переживает интереснейшее изо всего, чем может одарить жизнь",- так писал Гельмгольц о роли, которую сыграл в его судьбе их общий учитель. Но куда ярче сила воздействия людей первой величины отразилась в судьбе Шванна, потому что все, им свершенное в науке, пришлось на те берлинские пять лет работы под крылом у Мюллера и особенно на последний год из этих пяти, начавшийся в октябре 1837-го встречей со Шлейденом.
Но вновь - в октябрь 1837-го - к знаменательной их беседе.
...Маленькая берлинская кухмистерская. Столик с тарелками и два сотрапезника за ним - Шлейден, высокий, худощавый, высоколобый, с вьющейся шевелюрой и аккуратными усиками на очень нервном лице, и Шванн - он покоренастей, пониже ростом, немного уже склонен к полноте. Русые гладкие волосы зачесаны наверх и на пробор. Небольшие аккуратные бакенбарды. Черты лица крупные, скульптурные.
И ясные детские глаза, с восхищением устремленные на собеседника.
Как биологи они ровесники: медицинский факультет оба окончили одновременно, четыре года назад, только в разных университетах. Но Шлейден старше на шесть лет, и в его судьбе было, говорят, мрачно-драматическое событие, он теперь живет в полном смысле слова второй жизнью.
...В 1829-м молодой адвокат Шлейден (он был сперва адвокатом, доктором права) пытался застрелиться (кажется, из-за любви, большой и несчастной). И по случайности он не убил себя, а только ранил, да все ж так тяжко, что спасители-врачи больше года потратили на то, чтоб поставить его на ноги. Но в дни возвращения к жизни Шлейден ощутил естественную при этом нежность к отчему дому, где его выхаживали родные, и в старых отцовских книгах - отец был врачом - открыл для себя прелесть науки о мире живого, которой прежде чурался из противоречия, какое пробуждает в сыновьях склонность отцов навязывать им свои взгляды и пристрастия, отчего и выбрал сперва юриспруденцию.
Теперь он действительно все начал заново. Заново поступил в университет - на медицинский факультет. Увлекся физиологией растений. Оснастился второй докторской степенью. И вот принес в "Мюллеровский архив рукопись с весьма смелой гипотезой, чем и вызвал у мюллеровских учеников интерес и к ней и к себе.
Статья, подарившая ему признание и Шванна, и самого Мюллера, и прочих коллег, называлась "Материалы к развитию растений". На нынешний холодный взгляд все, что писал в ней Шлейден о строении тканей и о растительном организме как "агрегате совершенно индивидуализированных замкнутых отдельностей, являющихся клетками", было частью повторением, а частью опытным подтверждением теоретических положений Мейена. В растительной клетке Шлейден различил то же, что видели Мейен и фон Моль. То же, что и они, сообщал о ее составе - о разнообразии в ней неорганических и органических веществ, и бесструктурных и организованных в зерна хлорофилла, пигмента, крахмала. И хотя он охарактеризовал вещество "цитобластемы", то есть протоплазмы, всего как "студень" или "камедь", то есть клейкий древесный сок, все яге предположил, что обменные процессы клетки активны, они не сводятся к простому осмосу молекул сквозь ее оболочку внутрь и наружу, а существует какая-то их регуляция.
Но главным в статье была, как мы уже знаем, гипотеза о месте клеточного ядра в пространстве цитоплазмы и в жизнедеятельности клетки - судить об этом никто еще не пытался.
...Шлейден счел более плотную пристеночную часть "цитобластемы" второй оболочкой клетки и отвел постоянное место ядру между истинной оболочкой и этой воображаемой "внутренней пластинкой". '
Ядра, как известно, не обязаны располагаться строго в центре клеток, но почему он всегда видел их только в пристеночной части цитоплазмы - это неразрешимая загадка. Правда, один серьезный ботаник спустя сорок лег предложил на нее ответ - он сказал, что теория образования клеток, которую Шлейден стал в этой статье развивать, "возникла из трудно постижимого слияния неясных наблюдений и предвзятых мнений".
Добавим, у Шлейдена не было изобретательской жилки Пуркине. Он пользовался только общеизвестными в те дни методиками обработки препаратов и не очень-то замечал их несовершенства. А по-настоящему различить детали клеточной структуры удастся через два-три десятка лет - когда Шлейден уже бросит профессуру и целиком посвятит себя литературной работе, чтобы в ней снова прославиться - теперь как отличный писатель-популяризатор, способный просто, ясно, но без намека на вульгаризацию повествовать о серьезнейших научных делах.
Его книги будут переведены на многие языки и на русский тоже (кстати, Шлейден в шестидесятых годах профессорствовал в Дерпте, нынешнем Тарту). Эти книги говорят, читались взахлеб. Они - особенно "Растение" и "Море" - совратили в биологию немалое число будущие ученых, в том числе и русских. Среди научных и научно-популярных писателей XIX века, в котором вообще но было принято миндальничать с оппонентами и противниками, немногие могли сравниться с ним по темпераменту, по страсти, по агрессивности, выразительности и беспощадности, с какой Шлейден с первой своей научной статьи и до последней обличал всех тогдашних своих коллег - кроме Шванна и Роберта Броуна - за неточные наблюдения и необоснованные суждения! А как доставалось от него виталистам - включая Мюллера:
"Только невежество,- писал он,- и леность мысли могут быть при нынешнем состоянии естествознания защитниками жизненной силы, которой надлежит все знать, все объяснить и о которой никто не может сказать, где она скрывается, как действует, каким законам подчиняется".
Но, увы, он мысли не допускал, что недостоверными могут быть и его собственные наблюдения, а теория, которую он выстроил на их шаткой почве и многие годы отстаивал, сродни гаданью на кофейной гуще.
А ведь основная его догадка оказалась гениальна: Шлейден приписал клеточному ядру главную роль в образовании новых клеток - он даже дал ему имя "цитобласт", "клеткообразователь". Но Шванн и любой другой серьезный исследователь, да и сам Шлейден тоже, мог принять идею, только увидя, в чем состоит и как воочию осуществляется эта главная роль!..
И Шлейден "на основании своих наблюдений" нарисовал контуры механизма "свободного образования клеток".
Якобы в "цитобластеме", в "производящем веществе" материнских клеток, время от времени происходит концентрация молекул в некие зерпышки. Из зерен образуются ядрышки. Вокруг них формируются ядра будущих клеток, они приподымают оболочку, отчего получается выпуклость, будто бы похожая на часовое стекло. А затем вокруг "цитобластов" возникает и "цитобластема" дочерних клеток. В финале событий оболочка старой клетки исчезает, и вместо одной клетки оказывается несколько новых. (Словом, почти как у старика Каспара Вольфа, Из старых частей растения выпадают капельки, образующие клетки молодых зеленых побегов...)
Микрофотографии еще не существовало. Неизвестно было даже о простой фотографии, над которой тайком от всего белого света корпел в своей парижской мастерской Художник Луи-Жак Дагерр (он сообщит о своем изобретении только в 1839-м, в год выхода книги Шванна). И на рисунках Шлейдена оказалось воплощено не столько то, что он видел в свой микроскоп, сколько то, что он домысливал,- конденсация зерен в цитоплазме, возникновение ядер и материнские клетки, набитые дочерними.
Но ведь несколько лет назад Дюмортье, а затем сам Гуго фон Моль уже описали деление клеток нитчатых водорослей и довольно точно - они только не видели при делении ядер и каких-либо происходящих с ядрами событий! И Мейен немного позднее тоже повторил эти наблюдения Моля. Из осторожности все они воздержались от утверждений, что открыли единственный механизм размножения клеток. А Шлейден словно бы пе заметил их работ, будто не прочел или не счел нужным обсуждать, поскольку в них и речи не было об органе, руководящем процессом,- о ядре.
И вот что удивительно! Рядом со всеми фантазиями Шлейдена, в той же его статье очутился рисунок, воспроизводивший достовернейшее наблюдение: дочерние клетки дрожжей, которые отпочковываются от материнских,- явление, отлично знакомое любому микробиологу, который наблюдал за живыми дрожжевыми клетками! Однако и это событие Шлейден запихнул в свою схему - он истолковал почкование, как образование новых клеток снаружи старых "путем конденсации зернышек". Историки науки предполагают, что Шлейден здесь принимал за "зернышки" клетки бактерий, размножавшихся в той же среде, что и дрожжи. Не предполагают одного - недобросовестности.
И вот такая фактическая ошибка Шлейдена - столь грубая, столь досадная - оказалась для науки благодатной.
Она привела Теодора Шванна к мысли, которая сделалась ключом для осознания закона строения всего живого - тем стержнем, на который он нанизал всю огромную груду гистологических фактов, накопленных и в Берлине, и в Бреславле, и в Париже, и в Брюсселе - везде, где создавалась новая наука - наука о клетке. То была мысль, что решающим доказательством для представления о клетке как об "атоме живого мира" - как об общем структурном и физиологическом элементе,- может стать только установление единства происхождения всех клеток, единства механизма их образования.
Шлейден дал этой его мысли сильный философский! заряд - ведь мы по его сочинениям знаем, что он думал и что говорил в задушевных беседах с коллегой Шванном.
"Каждая клетка,- рассуждал Шлейден,- ведет двойственную жизнь: одну - вполне самостоятельную, относящуюся к ее собственному развитию, и другую - зависимую, поскольку клетка становится составляющей частью растения. Не трудно, впрочем, убедиться, что как для физиологии растений, так и для сравнительной физиологии вообще жизненный процесс отдельной клетки должен составлять первейшую и необходимую основу, а потому в первую очередь должен быть поставлен вопрос: как же, собственно, возникает этот своеобразный маленький организм, клетка?"
Первым ли Шлейден задумается над проблемой развития клетки? Конечно же, нет. Еще Лёвенгук утверждал, что его анималькули размножаются путем деления. Правда, исследования, какие вели с начала века Тревиранус, Тюрпен и фон Моль в ботанике, а Пуркине и Мюллер с учениками в гистологии животных, были нацелены па следующий уровень - не на размножение клеток, а на развитие их, трансформацию, происходящую при образовании тканей, то есть клеточных систем. (Габриель Валентин особенно преуспел в этом: его труд "Сравнительная гистология" Парижская академия удостоила Монтионовской премии - три тысячи франков - не шутка!)
И все-таки никто еще не ставил задачу так, как Шлейден.
Никто не выводил ее за пределы доступного человеческому глазу, вооруженному тогдашней оптикой,- недурственной, но все же недостаточной,- в глубины, которые по-настоящему достижимы окажутся лишь для биологии второй половины следующего, XX века!
Никто еще не говорил, что сущность клетки как целого и как части целого - в ее происхождении, в ее развитии, которое и составляет ее бытие.
Натурфилософия и Гегель, властитель тогдашних дум, сделали свое дело: естествоиспытатель перестает искать однозначности - теперь для него противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия - заблуждение.
Энгельс назовет клеточную теорию одним из трех великих открытий, которые гигантскими шагами двинули познание взаимной связи процессов, совершающихся в Природе. Именно ее диалектическое содержание он поставил особенно высоко: "Главный факт, революционизировавший всю физиологию и впервые сделавший возможной сравнительную физиологию, это - открытие клеток,- писал он Марксу.- ...Все есть клетка. Клетка есть гегелевское в себе-бытие и в своем развитии проходит именно гегелевский процесс, пока из нее, наконец, не развивается "идея", данный завершенный организм".
Шлейден подсказал ход. Шванн разыграл победную партию.
Три статьи, в которых очертились контуры его будущего фундаментального труда, вышли в свет с невероятной быстротой: первая - в январе 1838-го, через три месяца после памятного обеда со Шлейденом. Вторая - в феврале. Третья - в апреле. А осенью была сдана в печать его главная книга - она вышла в январе 1839-го.
Революции в науке обходятся без ружейных залпов - название книги столь же непритязательно, как и был в жизни ее автор: "Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений". Для читателя современной научно-популярной литературы первые фразы ее предисловия на удивление привычны:
"Существенное преимущество нашей эпохи,- писал Шванн,- заключается в том, что отдельные дисциплины естествознания начинают вступать между собой во все более тесную связь, и именно этим взаимопроникновением и восполнением обусловлена значительная часть успеха, достигнутого естествознанием в последнее время".
Сто сорок лет назад это написано! Сто сорок лет назад - и в его словах не было ни чуточки натяжки, потому что именно его, Шванна, трудом создавалась основа для понимания общих законов развития обоих царств живой природы, ранее строго разделенных в глазах науки. И потому что в это же время физиология животных и растений - пусть еще без системы и неумело, но уже начинала высматривать в процессах жизнедеятельности проявление законов физики и химии, в те времена в значительной их части еще не установленных. Ведь всего три года спустя корабельный врач Роберт Юлиус Майер первым в науке придет к осознанию важнейшей из основ бытия материи - закона сохранения и превращения энергии. А главным исходным пунктом для его гениальных рассуждений окажутся проявления закона, замеченные им в физиологических событиях - в организме человека!..
План книги Шванна предельно ясен. Он открывал ее общей формулой теории - основной идеей, вспыхнувшей в памятном разговоре со Шлейденом, но заготовленной более чем полуторавековым трудом науки, начиная раз розненными наблюдениями десятков микроскопистов - от Гука, от Лёвенгука, Малыгаги и Грю - и кончая напряженными целеустремленными изысканиями его современников и его собственными.
Вот она, формула:
"Основной итог исследования заключается в том, что всем отдельным элементарным частицам всех организмов свойственен один и тот же принцип развития, подобно тому, как все кристаллы, несмотря на различия их форм, образуются по одним и тем же законам".
И это уже не натурфилософское пророчество, а знание, обоснованное тремястами страниц доказательств - собственными описаниями микроскопической структуры ткани хорды и ткани хряща, внешне совершенно несхожих, и многочисленными данными о строении других тканей, добытыми гистологами, эмбриологами и ботаниками - коллегами по своей школе, коллегами из Бреславльской школы и коллегами-одиночками.
Шванн сопоставляет элементы ткани, ими описанные,- все эти "шарики", "пузырьки", "волокна" и "ядрышки", которые не следует путать с настоящими клеточными ядрами и ядрышками. Доказывает их одинаковость, их тождественность. Отбрасывает терминологическую путаницу и словесную шелуху. И выводит четкое определение, что есть клетка.
Он утверждает представление о животной клетке, как о биологическом индивидууме, закрепляя за ней те же "права", в каких утвердили клетку растения Мейен, Тюрпен, фон Моль и Шлейден. Затем выводит принципиально новую классификацию животных тканей, основанную на происхождении и судьбе клеток, из которых они формировались в процессе развития "от яйца". И возвращается к исходным положениям работы, теперь уже серьезно обоснованным.
Итак, клетка - это элементарная биологическая единица структуры любого организма. Организм есть сумма составляющих его клеток, и основа его питания и роста - в их жизни, а само единство живой природы - в единстве принципа развития клеток, первичных элементов, которым присуща жизнь.
"...Мы,- возвещает Шванн,- исходим из предпосылки: в организме нет никакой силы, которая бы действо- вала согласно определенной идее; организм возникает по слепым законам необходимости, действием сил, которые так же обусловлены существованием материи, как и силы неорганической природы".
Вот так он и утверждается постепенно в умах - стихийный естественнонаучный диалектический материализм.
Но при этом у Шванна не было ни малейшего желания оказаться публично зачисленным в материалисты, да еще, упаси бог,- в воинствующие! И трудно сказать, остался ли он таким же верующим католиком, как в юности, когда даже поступил было на богословский факультет, впрочем, вскоре им покинутый ради естествознания, или же просто посчитал по-житейски, что невзначай заработанная репутация атеиста может перекрыть ему путь к профессорской кафедре, баллотироваться на которую ему в 1839 году как раз и предстояло.
Во всяком случае в должном месте книги он прошаркал, как приличествовало, реверансы "разумному существу, все сотворившему", а ученую свою душу тотчас же облегчил рассуждением на манер Лейбница, не очень-то подходящим для католика, сведущего в богословии, будто, дескать, "разумная сила", разделавшись с сооружением мира, теперь уже не выступает "как непосредственно деятельная" и посему - так он подытожил,- "в области естественных наук вполне можно оставить ее без внимания..."
4
Если приложить к теории Шванна сравнение, которым эта повесть была начата,- с постройкой здания, возводимого многими людьми, меж которыми поделен труд по составлению плана, рытью котлована, кирпичной кладке и так далее,- то накопление фактов, длившееся все стосемидесятилетие от Гука до Пуркине и Мюллера с их учениками, следует уподобить заготовке стройматериала. Обобщения, возглашавшиеся от Окена до Шлейдена без достаточных оснований,- вариантам проекта. А работу Шванна - укладке из фактов добротного фундамента и возведению стен.
Но, увы, в этот его "дом клетки" нельзя было никак заглянуть, чтоб поточнее разобраться в происходящем.
Ведь Шванн восхищенно взял у новоприобретенного друга чохом все - и блестящую идею генетического единства клеток, без которой теория не смогла бы ни сложиться, ни утвердиться, и его фантастическую "теорию часового стекла" ("Uhrglasstheorie"). Он даже сам углядел в тканях животных свободное образование клеток - и не только внутри других, но и в межклеточном веществе. Для него это было очень важно - ведь в 1836 году оп повторял знаменитые опыты Спалланцани, доказывающие, что самопроизвольного зарождения живых существ из неживого материала не происходит, а, как говорил Лоренц Окен, "omne vivum е vivo" - "все живое из живого", из органического. И теперь он сам почти четко высмотрел возникновение клетки в бесструктурном "живом веществе" меж надкостницей и костью!..
Ему очень хотелось это увидеть, и он был счастлив, что смог подтвердить и даже развить "великое открытие Шлейдена"! Вот так и получилось, что тот оконный или дверной проем, сквозь который можно было бы проникнуть дальше внутрь микромира жизни, Шванн загородил щитом, на котором нарисована шлейденовская картинка важнейшей фазы жизни клетки, ключевой для понимания ее внутренних процессов и роли ее структурных элементов,- увы, не имеющая ничего общего с истиной!
Назначением, функцией в их "цитогенезе" были наделены только "клеткообразователь", неведомо почему возникающий из "клеткообразующего" вещества, и оболочка, через которую внутрь клетки и из клетки путем осмоса циркулируют вещества. Ложная картина наглухо закрыла собой глубины, не давая мысли в них заглянуть.
...Можно пофантазировать, что было бы, если мысль о роли ядра как "клеткообразователя" и о единстве происхождения клетки пришла бы, например, аккуратненькому, кругленькому, бородатенькому и завидно зоркому вопреки слабому своему зрению Гуго фон Молю, открывшему деление растительных клеток! Насколько более точной могла бы стать гипотеза механики их образования, чем у Шлейдена! Правда, неведомо, Шванн ли создал бы тогда клеточную теорию или же кто-то другой...
Но все было как было - и не иначе. А потому, как только клеточная теория воздвиглась, первейшим делом науки оказалась необходимость опровергнуть "великое открытие" .
Нет, никто не ставил, не формулировал специально этой задачи. Напротив, все - включая и фон Моля - даже мысли не допускали, что великого открытия не было, а была большая ошибка. Но первые удары "теория цитогенеза" получила все же именно в ботанике - ведь ботаника изначально шла в цитологических проблемах впереди, да вскоре и генетика именно в ней зародится. Только не надо приписывать ботанике никакой особой "познавательной силы": просто ее объекты - растения и растительные клетки - более удобны для наблюдения и для эксперимента, чем клетки животных и сами животные.
Спустя всего два года после выхода книги Шванна замечательный австрийский ботаник Франц Унгер тщательно пронаблюдал, как возникают новые клетки в точках роста ряда растений, и ни разу не обнаружил их "свободного образования". Только уже известное деление у высших растений и еще почкование клеток у грибов.
Однако Унгеру тогда и в голову не пришло сейчас же отвергнуть теорию Шлейдена, а поэтому ему осталось предположить, что описанное столь знаменитым ученым "первичное" клеткообразование - без участия ранее существовавших клеток - это явление ограниченное и, видимо, характерное лишь для низших водорослей и лишайников.
А цитолог он был не хуже Моля, и мысль его была смела и беспощадна - он стал одним из основателей палеоботаники и в Австрии был, пожалуй, наиболее заметным из эволюционистов - предшественников Дарвина. Во всяком случае задолго до появления дарвиновского "Происхождения человека" Унгер поддерживал идею нашего происхождения от древних приматов. Из-за этого "Венская церковная газета" требовала чуть ли не лишить его права читать лекции в столичном университете, как "фармазона", который проповедует "скотские теории". А еще, кстати, он чуть ли не первым среди коллег поставил эксперименты, которыми доказал, что изменения среды, а именно солевого состава почвы, не могут вызвать у растений таких приобретенных признаков, каковые бы наследовались и постепенно давали бы начало новым видам, более приспособленным к изменившимся условиям, как это предначертал Ламарк.
Даже Дарвин не решался тогда столь категорично перечеркивать сей способ эволюции. Унгер решился.
...Кстати, именно этими опытами очень интересовался один из его студентов - вернее, из вольнослушателей,- учившийся в Вене в 1851 - 1853 годах, уже не юноша тридцатилетний, невысокий такой, круглолицый, близорукий, смешливый и смышленый монашек-_августинец. Его звали Грегор Мендель. Он был из Брюнна - из Брно по- чешски, отчего говорил с сильным силезским акцентом, а на жизнь он себе подрабатывал тем, что помогал профессору-физику Доплеру демонстрировать опыты на его лекциях.
Потом этот бывший студиозус у себя в Брно, в садике монастыря, не раз и в разных модификациях воспроизведет такие опыты, дабы покрепче убедиться, что приобретенные признаки не наследуются. И он будет это делать одновременно с экспериментами по скрещиванию разных сортов гороха и еще изрядного числа других видов растений, и с кропотливейшими наблюдениями над тем, как передаются признаки прародителей их потомкам из поколения в поколение.
Десятилетний - с 1856 по 1865 год - труд приведет Менделя к прочно доказанной, но довольно необычной - слишком математической для тогдашней ботаники, теории о неких наследственных "элементах" или "задатках", которые обусловливают все признаки растений и животных и передаются потомкам через половые клетки.
...И будто бы эти "задатки" разных признаков дискретны, независимы друг от друга и поэтому способны свободно комбинироваться в пыльцевых и зачатковых клетках растений и наделять потомков разными сочетаниями признаков разных их предков.
По расчетам Менделя, получалось, что в телесных клетках находится по два "задатка" каждого признака, двойной их набор, а в половых - наборы одинарные, по одному "задатку" на каждый признак, складывающиеся при оплодотворении снова в парный "комплект". Этот патер Грегор Мендель, между прочим, работал и с микроскопом - ведь он прилежно еще в лаборатории Унгера освоил технику микроскопирования. Но что он там искал в пыльцевых и зачатковых клетках, неизвестно. Нет, впрочем, он доказал, что оплодотворение производится одним пыльцевым зерном. А ведь многие предполагали - даже Дарвин,- что несколькими! И будь так,- его гипотеза рухнула бы, но она подтвердилась. А вообще-то он не мог себе позволить интенсивную работу с микроскопом - из- за болезни глаз.
...Но нам необходимо вернуться ненадолго из шестидесятых в сороковые годы того столетия. Ведь мы не ознакомились с очень важной работой и весьма своеобразным человеком.
Это швейцарский ботаник Карл Негели. Именно он в 1845 году и докажет, что свободное клеткообразование - миф. Оно никогда не происходит ни в одном из растений, а размножение клеток подчиняется закону, который этот 25-летний профессор формулирует вот так:
"Материнская клетка дает начало двум или нескольким дочерним клеткам посредством деления, виденного впервые Молем".
А ведь совсем недавно Негели специально приезжал к Шлейдену в Иену, чтобы поработать под его руководством,- какова благодарность, а?..
Материал Негели предъявил весомый. Деление клетки на две он наблюдал у ряда растений в точках роста и в кончиках корня, то есть при образовании, как говорят, "соматических", а попросту "телесных" клеток. Формирование четырех клеток из одной - при образовании половых клеток пыльцы.
...Микрофотографии, точной и бесстрастной, все еще не существует. Более совершенные микроскопы появятся после 1882 года, но пока достает и тех, что сконструированы в 1830-х: они, вобщем-то, еще не вызывают недовольства. И потому все предстоящие на ближайшие пол-века открытия зависят от улучшения микроскопической техники - именно методик фиксации, то есть обезвоживания ткани, и методик приготовления ее тонких срезов и окрашивания клеток, выявляющего детали строения. От умелого их применения и от умелой работы с оптикой. И от зоркости - тоже. А карандаш - в этом его особенность - фиксирует не только то, что увидел исследователь, но и позволяет понять по рисунку еще и как он смотрел.
Наблюдательность Негели поразительна, а еще более поразительно его умение работать с препаратом: ведь он при очень несовершенных методиках сороковых годов воспроизвел в своих рисунках весьма достоверные схемы фаз мейоза, то есть "редукционного деления", при котором образуются половые клетки, в данном случае пыльцевые Негели обозначил, как последовательно на разных фазах изменяется плотность ядерного вещества - как оно перераспределяется в пространстве материнской клетки на одном, другом, третьем этапе. То оно у него показано окруженным оболочкой. То оболочка оказывается исчезнув-шей - это происходит перед его разделением. То оно вновь сконцентрировалось, наметив очертания ядер будущих дочерних клеток. И, наконец, вокруг этих ядер вновь обозначены оболочки.
Негели показал в рисунке облик событий, но он не дал им внятного толкования.
Вот и его коллега из Геттингенского университета - Вильгельм Гофмейстер, правда, двумя годами попозднее, не только увидел те же самые "происшествия" с ядрами и ядерными оболочками в делящихся клетках, но даже не раз вместо ядер обнаруживал палочкообразные тельца, то лежащие одной кучкой, то двумя кучками, а то и не очень-то тесно сгруппированные. Двадцать лет он это обнаруживал! (Вернее, много раз за двадцать лет - как только снова принимался изучать клетки традесканции, а они у нее крупные, и эти "палочки" тоже очень крупные.) Увы, Гофмейстер считал их "артефактами", то есть "искусственными фактами", в появлении которых повинен он сам - дескать, это у него в такие палочки и кучки из-за непонятного порока методики приготовления препарата свертывается клеточный белок.
Только в 1867 году Гофмейстер отважился заявить, что ядра как бы исчезают перед делением, а затем в каждой дочерней клетке возникают новые. А о том, что эти "комочки белка" тоже не артефакты, так и не додумался.
Осмысляться все это будет еще через десяток лет, когда цитологи усовершенствуют технику микроскопии, научатся избирательно окрашивать вещество ядер и другие органеллы клетки - недаром же эти так и сяк перегнутые "палочки", в которые оказывается в начале деления "упакованным" ядерное вещество, получат имя "хромосомы", то есть "цветные" или "окрашивающиеся" тельца.
После этого и будут детально описаны оба вида клеточного деления. Сначала митоз - деление телесных клеток, затем мейоз - образование половых. Или еще, как любили называть их старые биологи, "танцы хромосом".
...Они выявляются в ядре соматической клетки - толстые, набухшие. А на самом деле к этому моменту у каждой хромосомы - даже по молекулярным масштабам вплотную к ней - уже выстроилась ее точная копия.
Каждая из этих пар разделится и разойдется "в танце" к разным полюсам ядра, а потом ядерные оболочки исчезнут, и две одинаковые стайки телец - два полных хромосомных набора - отплывут к разным полюсам клетки. К этому моменту в ней уже удвоятся митохондрии 11 другие элементы-органеллы, и далее новые ядра окутываются оболочками, а цитоплазму, завершая деление, пересекает перетяжка - две мембраны двух новых клеток. И в "комплекте" ядра любой нормальной телесной клетки непременно содержится по две хромосомы каждого типа. В начале следующего деления их окажется по четыре однородные, а в следующих дочерних - снова по две. Для каждого вида живых существ число хромосом постоянно. В клетках ржи их семь пар, у комара - три пары, у одной из микроскопических радиолярий их восемьсот пар, у лука - по восемь, у эвкалипта и жабы - одиннадцать пар, у собаки - тридцать девять, у человека - двадцать три пары, то есть сорок шесть хромосом, и все они во всех телесных клетках повторяют этот "танец" Митоза.
Но есть в теле и растения и животного особые клетки "гоноциты". Им изначально - с первых фаз развития зародыша - от некоей эмбриональной "первоклетки" передано по долгой цепи делений ее предшественниц назначение произвести из себя половые клетки - "гонады". Здесь события разыгрываются иначе - в два этапа. В гоноцитах хромосомы вначале тоже удваиваются и расходятся, образуя два "полных", два "диплоидных" набора, но деления цитоплазмы в них не происходит. А после краткой паузы совершается вот что: пары однотипных хромосом каждой из двух хромосомных "стаек" тоже разбегаются, расходятся. И в клетке в итоге формируются не два, а четыре ядра, и затем сама она делится сразу на четыре пыльцевых зерна-яйцеклетки, или на четыре спермия, содержащих половинный набор - по одной хромосоме каждого типа. Ибо в оплодотворенном яйце - точно, как это математически вывел Мендель,- должно очутиться по два "элемента", по два наследственных задатка каждого признака будущего существа.
...И каждый раз, в каждой жизни это будет повторяться в долгой череде клеточных митозов, из которых слагается рост и развитие организма, и новых мейозов, в которых заготавливаются клетки, способные дать начало новым существам, награжденным свободными сочетаниями "особенностей" их предков.
Ну, а то, что хромосомы состоят из молекул ДНК - дезоксирибонуклеиновой кислоты, что эти молекулы и есть "гены", химические хранители наследственной информации, читатель и слышал и читал, наверное, уже бессчетное число раз! Все это - величайшее достижение науки середины уже нашего века... Но давайте соригинальничаем и побольше поговорим о другом, вот о чем.
...Окончательное осознание и описание мейоза было сделано лишь к 1905 году. А ведь все-таки первые рисунки, изображавшие деление клетки-гоноцита, точнее - "микроспороцита", и формирование из ее ядра четырех ядер, а из нее самой четырех пыльцевых клеток, были опубликованы Негели в 1845-1846 годах в работе "Клеточное ядро, клеточное деление и рост клеток у растений". Именно эта работа и перечеркнула в ботанике "теорию часового стекла".
Но не в пример Шванну, вдруг сникшему и стихшему после головокружительного своего взлета, Негели невероятно много сделал в последующие годы. А ведь он был, говорят, очень болезненный человек - вот все недужил-недужил и прожил до семидесяти четырех, непрестанно при этом работая за троих.
Он открыл сперматозоиды папоротников, написал руководство по микроскопии, цикл работ по физиологии бактерий, книгу "Индивидуальность в природе и особенно в растительном мире", очерк "Теория образования бастардов" (гибридов) и множество статей, посвященных проблемам гибридизации, изменчивости и образованию новых видов, и любимым своим растениям - ястребинкам. (Это нам стоит запомнить.) В своих работах по проблеме изменчивости он ввел в биологию новые для тех времен понятия "ненаследуемые модификации", "наследуемые вариации", "одомашненные расы". И утверждал, что гибридизация - возможный путь образования новых видов.
И наконец, самое дерзкое: Негели проследил, как у споровых растений из верхушечных клеток формируются ткани, и динамику роста и развития организма представил ученому миру в своих микрографических описаниях как динамику клеточных процессов.
"Символ веры" Негели звучал так: "Клетки представляют собой элементы, из которых мы согласно математическим правилам можем построить органы".
И это не было пустыми словесами, ибо Негели построил свою математическую теорию роста.
Его имя гремело - он был в тогдашней науке звездой первой величины. Словом, вряд ли надо объяснять, почему именно ему, Негели, в Мюнхен - он со временем перебрался в тамошний университет - и был прислан из Брно в январе 1867 года отдельный оттиск довольно большой статьи "Опыты над растительными гибридами", напечатанной в очередном сборнике местного провинциального "Общества испытателей Природы". Автор статьи Грегор Мендель, "каноник монастыря и профессор высшего реального училища" - он в нем обучал мальчишек физике, ботанике и естественной истории,- предлагал свой труд любезному вниманию Его Высокородия в надежде, что не встретит отказа в "неоценимом содействии".
Да-как тут было Менделю не искать в Негели, в авторе теории роста, желанную родственную душу, когда его первые критики, коллеги и друзья из брненских естествоиспытателей, чуть ли не на стену лезли как раз от математических выкладок, от вероятностной комбинаторики, из которой вырастали теоретические выводы его работы - его, Менделя, законы!.. Пусть теория Негели была отнюдь не само совершенство, но ведь она замечательна именно как свидетельство иного уровня мысли, как олицетворенное взаимопроникновение, взаимное обогащение разных наук, которое вызвало горделивое чувство еще у Шванна. (Оно и на каждом из последующих этапов развития естествознания будет ощущаться и провозглашаться замечательной особенностью именно того этапа.)
Их переписка длилась семь лет.
Конечно же, все эти годы Менделю более всего остального хотелось обсудить свою теорию, в некоей схеме возникшую у него, видимо, еще до начала работы,- слишком уж четок ее план, ее ход,- а затем в десятилетнем труде облаченную в полнокровную плоть фактов, добытых экспериментально и многократно переосмысленных.
И он знал цену своей работе - тому предостаточно свидетельств. И думать не думал выставляться перед ученой знаменитостью смиренным иноком или робким провинциальным учителишкой. Да ведь в ту пору в Германии и Австрии и университетского преподавателя, возглавляющего кафедру, и школьного педагога называли одинаково - "господин профессор". Профессор писал профессору, и лишь на всякий случай, чтоб не обидеть, Мендель обратился к старшему коллеге "Ваше Высокородие" - университетской шишке подобал чин надворного, статского, а то и тайного советника,- вдруг обидится.
В остальном все было в пределах правил хорошего научного тона, которые неукоснительно требовали и сейчас требуют от новичков если не смирения, то хотя бы показной скромности. Им, новичкам, не приличествует возвещать, чем они считают свою работу. Им не подобает произносить слова "открытие". Им полагается терпеливо ждать, пока это слово вымолвят вышние.
Посылая Негели оттиск статьи, он счел, что двух фраз о надежде на любезное внимание и об ожидании неоценимого содействия вполне достаточно, чтобы услышать мнение по существу дела. Поэтому можно попросить у профессора конкретный совет относительно тех опытов, которые, казалось бы, уже ничего не могли изменить,- ведь Мендель с истинным профессионализмом знал цену уже полученных им доказательств. Но он наткнулся на два вида растений - на ястребинки и бодяк, у которых то ли не получалось искусственной гибридизации, то ли они жили по каким-то другим правилам. Примириться с упрямством ястребинок было невыносимо, ибо его законам должны подчиняться все виды растений и животных! Оттого он неосторожно и попросил лучшего в Европе знатока этих растений подсказать ему, из-за чего неудача.
И на этот вопрос Негели ответил с полным знанием дела: "К сожалению, искусственное опыление у них практически почти невозможно..."
А о сути работы не обмолвился ни словом, хотя высоко отозвался о тщательности и терпеливости Менделя, предсказал великую удачу, которой он может добиться, если, как подразумевалось, будет исполнять наставления заочного руководителя. Большое дело всего лишь начато, твердил он, и настоящие результаты пока что в дымке.
Причина "непослушания" ястребинок и бодяка еще не была известна. Никто еще не знал, что эти растения и некоторые другие виды, одуванчики например, размножаются неполовым путем, но они при этом образуют семена, и весь процесс выглядит так, будто растение все-таки размножается половым путем!
Но столь категорически сказав о невозможности гибридизации ястребинок, Негели всей силой своего авторитета заставил Менделя продолжать попытки их скрещивания. Он даже заявил, что следует начать все опыты с горохом сначала, и сделал из непокорных ястребинок аргумент, единственно способный доказать или отвергнуть истинность открытых явлений, и, как говорится, "в упор не видел" огромного менделевского запаса фактов, и искусно избегал даже касаться в письмах и его законов, и его метода, который отмыкал двери в новую область познания - в механику наследственности.
"Мендель в своих опытах с растительными гибридами дал нам в руки орудие, которое мы можем сравнить с рычагом Архимеда",- так много лет спустя сказал Карл Корренс, ученик Негели, которому принадлежит главная доля славы "второго открытия" законов Менделя.
Он действительно открыл их заново. И одновременно с ним их открыли еще три биолога. Но когда Корренс засел за статью о своей работе, он одип из всех решил тщательно пересмотреть не только последние, но и очень давние публикации по изучаемому вопросу и в сборнике трудов провинциальных испытателей Природы откопал для себя и для мира работу Менделя через тридцать пять лет после ее появления и открыл самого Грегора Менделя, никому не ведомого, через шестнадцать лет после его смерти. И Корренс отказался от чести слыть открывателем важнейших законов биологии и заодно невзначай умалил славу трех своих коллег, дабы возвеличить истинного гения, надолго опередившего свое время.
Человек высочайшей чистоты, Корренс, кстати, с горечью говорил, что у его учителя Негели было две крайне досадные особенности. Он умел не замечать то, что не хотел заметить,- намеки, возражения, даже самую громогласную критику. И еще у него была скользкая привычка использовать в своих работах чужие идеи, доводы и факты, с завидным постоянством не ссылаясь на авторов, даже если это были идеи, доводы и факты столь известных авторов, как Кант и Лаплас, Дарвин и Геккель.
Мендель считал неприличным спросить у Негели напрямик: "Что вы думаете о моем открытии?" Но за те семь лет переписки он еще не раз пытался все-таки навести разговор на главное более деликатным способом: "Если правильно предположение, что гибриды образуют столько пыльцевых клеток, сколько существует постоянных видов комбинаций, то..."
Или еще: "...Только один эксперимент казался мне настолько важным, что я не решился отложить его на более поздний срок... В качестве подопытного растения я взял, как и Нодэн, Mirabilis Jalappa*, однако результат моего опыта оказался совершенно иным. Из опыления одним-единственным пыльцевым зерном я получил 18 хорошо развитых семян и от них столько же растений, из которых 10 уже зацвели..."
* ("Ночная красавица" (лат.))
Он был убежден, что столь страстный искатель, как его "высокочтимый друг" - а Негели уже предложил называть себя другом,- не может остаться равнодушным к такой приманке! Но "друг" ничего не замечал, и Менделю пришлось подчиниться его воле, убить на ястребинки все семь лет и, наконец, в отчаянии бросить и попытки получить требуемые доказательства и бесплодное заочное сотрудничество с мюнхенским светилом.
Он прервал переписку - не ответил подряд на два письма профессора. И никогда более ничего не публиковал о своих генетических исследованиях. Только о метеорологических, кстати, специалисты высоко их ценили.
...А еще через десять лет - в 1884-м, уже после смерти Менделя - его "высокочтимый друг", эти последние десять лет совершенно сосредоточившийся на проблемах наследственности, издаст труд "Механико-физиологическая теория развития", который сам назовет главным трудом своей жизни. В нем будет выдвинуто знаменитое, нашумевшее, вызвавшее в науке бешеные долголетние споры разделение организма на "идиоплазму" - на вещество, ведающее наследственностью и размножением, и на "трофоплазму", то есть вещества, осуществляющие все прочие "текущие" физиологические дела - "трофические", "обеспечивающие питание".
В этом труде он поведал миру об очень важных закономерностях, выявляющихся при наблюдении над передачей признаков предков в потомстве гибридных растений и животных. Он приводил конкретные примеры, весьма напоминавшие менделевские. Только он рассказывал, как происходит передача признаков не у потомства гибридов гороха, фуксий или кукурузы, а у гибридов ангорских и простых кошек, и еще - у гибридных анемонов.
Свои примеры Негели заключил такими рассуждениями: "Существуют растения, окраска цветов у которых варьирует между синим, красным, белым и желтым, и мне хочется предположить, что для каждого вида окраски в идиоплазме существует соответственное количество задатков".- И еще: "Любое различаемое свойство заложено как задаток в идиоплазме, поэтому видов идиоплазм существует столь же много, сколько существует и комбинаций свойств".
Теперь суть этих рассуждений для нас неоспорима разве лишь их стиль и термины старомодны. Современный генетик сказал бы короче: "сколько генов, столько же признаков, и сколько генотипов, столько и фенотипов". А о том, как устроены вещества, чья функция хранить и воспроизводить наследственную информацию, сейчас учат в школе. Просто теперь говорят "ДНК - РНК - белок".
Вот только "ошибку" Негели, не оценившего работы Менделя, никак не причислишь к тем, которые принесли науке пользу. Да ведь сам итог их "дружбы" тоже наводит на грустные мысли. Недаром Гуго Ильтис, первый биограф Менделя, так заметил об этом итоге:
"Остается загадкой, каким образом у гениальнейшего Негели, в памяти которого десятилетиями сохранялись малейшие колебания в окраске ястребинок, полностью исчезло из этой памяти содержание труда Менделя?.. Каким образом у него, чью основательность подчеркивали все его ученики, выпала из памяти работа, которую он изучил досконально, подверг критике и которую он сам вызвался проверить своими собственными опытами?.."
Но, пожалуй, если бы Негели услышал эти вопросы, прозвучавшие через сорок лет после выхода его книги, он скорее всего поступил бы только так, как поступал всю свою жизнь, когда слышал то, что не хотел слышать. Он бы сделал вид, что их не заметил, ибо отвечать на них было бы невмоготу.
5
Видимо, науки все-таки проникали друг в друга не во всех пунктах одинаково хорошо.
Во всяком случае если в ботанике Унгер отвел шлейденовскому клеткообразованию роль частного случая в 1841 году, а Негели отверг его совершенно в 1845-м, то в 1841-м Фридрих Якоб Генле в капитальнейшей "Общей анатомии" заявил, что делением размножаются клетки только у растений, "между тем как у животных нет примеров такого способа развития".
И сокрушить "теорию часового стекла" в гистологии удалось только в 1852-м. Сделал это Роберт Ремак.
...Уж так получилось, что Шлейдена в гистологии и вознесла и ниспровергла одна и та же компания - мюллеровская школа. Ремак был одним из самых старых и самых ярких ее сочленов - выдающийся эмбриолог, цитолог и врач, всю жизнь практиковавший. Он бы, может быть, и ушел от чисто врачебной работы и занимался бы только наукой, но слишком долго для него не находилось профессорской вакансии. А приват-доценты, каким он был довольно рано избран, получали гроши, которые платили сами студенты за "приватиссима" - за лекции, читаемые в "частном порядке" по отдельным проблемам науки,- если находились охотники эти лекции слушать.
Десятистраничная блестящая статья Ремака была напечатана в том же "Мюллеровском архиве", где увидели свет и шлейденовские "Материалы к физиологии растений" и статьи Шванна, возводившие здание клеточной теории. Ремак был лаконичен и сердит; по его мнению, Шванн допустил смехотворную логическую ошибку. Ведь он якобы высмотрел "свободное образование" животных клеток в межклеточном веществе. Но ведь он должен был бы расценить это уж отнюдь не как соответствие, а напротив, как отличие животных клеток от растительных клеток, образующихся, если верить Шлейдену, внутри материнских. Это должно было послужить не подтверждением теории Шлейдена, а напротив, опровержением и ее и самой идеи единства структуры живых организмов.
Ядовитое суждение - ничего не возразишь!
"Мне самому,- писал Ремак,- экстрацеллюлярное возникновение клеток со времени установления клеточной теории казалось в такой же степени невероятным, как и самопроизвольное зарояедение организмов".
Это замечание не случайно.
Два столетия самозарождение было предметом страстных дискуссий. От Аристотеля и до XVII века все было просто и ясно: мыши рождаются из "гнилого белья", лягушки и черви - из тины, мухи - из тухлого мяса, и оспаривалось только место самозарождения того пли иного существа. Но в 1630-х годах почетный лейб-медик Карла I Стюарта и всего лишь отец физиологии Вильям Гарвей в матках у ланей, по королевскому повелению специально Для него отловленных королевскими егерями в королевских лесах, а затем спаренных в загонах с самцами и через двое-трое суток убитых, обнаружил крохотные эмбрионы - на первых стадиях развития, и принял их за "яйца млекопитающих".
Происхождение других животных из яиц - насекомых, паукообразных, птиц, пресмыкающихся и рыб - для него было уже несомненно. А свою ошибку, оказавшуюся благо- Деянием для науки, он не мог осознать, даже если бы в микроскоп придворного астролога Корнелиуса Дреббеля и можно было бы различить, что крохотные комочки - это скопления клеток, еще не отличающихся одна от другой. Ведь не было ни понятия "клетка", ни представления о том, что яйцо - всего одна клетка. Но Гарвей сделал вывод без помощи микроскопа.
"Omne animal ex ovo" - "Все живое из яйца",- эта гениальная формула утвердилась в естествознании благодаря ошибке, которая навеки засвидетельствована в замечательной книге Гарвея "О рождении животных".
Спор, однако, продолжался. Франческо Реди пришлось подтверждать аксиому Гарвея доказательством, что мясные мухи "зарождаются" только в том мясе, куда их родительницы отложили яички, а Ладзаро Спалланцани - доказательством, что микробы плодятся только в той мясной подливке, куда они могли попасть из воздуха. (Сторонник идеи самозарождения Нидгем обнаруживал "самозародившихся" микробов именно в подливке.)
"Ex nihilo nihil" - "Из ничего - ничто" - такая формула прозвучала теперь. Но от опровержений идея заманчивости не потеряла. И сам Лоренц Окен, как всегда не очень обеспокоенный нехваткой опытных данных, возвестил, что "инфузории" не могут, конечно, возникать из неорганических веществ, но зато должны постоянно рождаться из веществ органических. (Он был еще, например, убежден, что человеческий организм после смерти распадается на отдельные клетки - на "инфузории", продолжающие жить сами по себе.) Поиронизировав над Гарвеем, Окен переиначил его формулу так: "Omne vivum e vivo" - "Все живое из живого". И Шванну, например, льстило, что своим "экстрацеллюлярным клеткообразованием" он подтвердил не только Шлейдена, но и Окена.
Теперь же, в 50-х годах XIX века, был, наконец, произнесен главный постулат клеточной теории:
"Omnis cellula е cellula" -"Каждая клетка-от клетки".
Эта чеканная латинская формула впервые прозвучала в одной из лекций "об учении целлюлярной патологии", читанных в 1858 году для практических врачей в институте патологии, только что открытом при Берлинском университете, главой этого института профессором Рудольфом Вирховым. С тех пор ее называют "формулой Вирхова" и его вкладом в клеточную теорию. И даже говорят, что Вирхов не только это произнес, а это доказал.
Однако основатель современной научной медицины - этот титул он разделяет с физиологом Клодом Бернаром - не приписывал себе такой заслуги. Он в чужих заслугах не нуждался и вообще о почестях никогда не заботился. Это он впрах разнес любимый довод Шванна: доказал, что ткань кости растет за счет деления клеток надкостницы, а образование ее клеток из "живого вещества" - мираж! Фантазия. Но куда грознее были аргументы Ре- мака! Да и Ремак тоже не в одиночку добыл необходимые факты. Основа была создана эмбриологическими работами многих мюллеровских учеников, а более всего Альберта Кёлликера, последовательно проследившего все стадии развития оплодотворенного яйца головоногих моллюсков: от первого его дробления на два недифференцированных шара - "бластомера" до образования клеток, уже несущих отличия, а затем - клеток, характерных для определенных видов тканей, ими образуемых.
Кстати, столь яркое доказательство, что у животных все же существует "такой способ развития" (деление клеток), Кёлликер получил в дни своей работы в Цюрихе прозектором на кафедре именно у Генле, сей путь отрицавшего: "Сократ мне друг, но истина - дороже".
Но вот почему истину надо доказывать непременно на головоногих - не возник ли у вас такой вопрос, читатель? Да ведь и не раз он мог уже возникнуть, сей вопрос, если в повествовании то и дело сообщается, что деление клетки удалось наблюдать сначала именно у нитчатых водорослей, а хромосомы - в клетках традесканции. Каких только странностей не встретишь! Например, фазы "танца хромосом" в митозе были впервые прослежены в яйцах лошадиной аскариды, которые после этого сделались на некоторое время чуть ли не любимым объектом цитологов, пока они не подыскали себе другие, еще более чем-то для них привлекательные!.. (Чур, никому ни слова - говорю по секрету: вся загвоздка в том, что ученому только кажется, будто это он выбирает объект для открытия. Ведь на деле это же объект "выбирает" ученого себе по вкусу!..)
XIX век был веком сравнительных наук - сравнительной анатомии, эмбриологии, гистологии, физиологии. Сопоставляя частные данные о строении и жизнедеятельности обитателей всех этажей и ступенек обоих царств Живого мира, исследователи высматривали законы воистину всеобщие. И в этом карнавале "чистых" и "нечистых" существ вдруг наталкивались на объект, способный подсказать проблему, а потом и на объекты, более других подходящие, чтобы изучить ее попристальнее. Для Шванна ими оказались клетки хорды головастика, для Кёлликера - эмбрионы каракатиц, и потому физиолог Макс Ферворн так сформулировал святое правило науки:
"Исследование должно исходить из проблемы, для решения которой мы подыскиваем объекты, а не обратно - из объекта, над которым мы хотим во что бы то ни стало оперировать".
Истинно так, но это лишь вторая половина дела - сперва все-таки надо увидеть проблему.
Ремак был врачом не только по образованию, но и по пристрастию: он упрямо хотел разобраться в способе размножения клеток высших животных, ему не терпелось познать бытие человеческого организма, и это было не прихотью, а научной необходимостью.
Основные наблюдения Ремака были тоже эмбриологическими: точно так же, как ботанику лучше всего искать делящиеся клетки в точках роста, так гистологу целесообразней всего исследовать бурно растущие эмбриональные ткани. С 1841 года Ремак принялся изучать размножение кровяных клеток у зародышей млекопитающих. А к 1851 году он проследил весь цикл их эмбрионального развития, весь, полностью - до завершения формирования тканей и органов.
Его сердитая статья была снабжена тяжеловесным, как приговор, названием: "О "внеклеточном" происхождении животных клеток и об обнаружении оного через деление".
И после этой статьи "оное", происходящее свободно, существовало уже, наверное, только "перед внутренним взором" Маттиаса Шлейдена, который продолжал отстаивать свою теорию и взгляды Шванна еще лет десять. Потом и он это бросил. А для Ремака та статья была лишь "промежуточным финишем" работы - спустя еще десять лет ее итогом стала книга "Об эмбриологической основе клеточной теории". А Кёлликер в двух книгах свел воедино все, что их науки накопили после Шванна...
Так что же осталось Вирхову? Многое.
6
...Так уж получилось, что коллеги и министры считали Вирхова бунтарем (часть коллег с симпатией, министры и другая часть - с антипатией), а настоящие революционеры - либералом, реформистом, соглашателем.?
Правы были все, хотя все говорили о разном - всяк по своей епархии. Коллеги-медики говорили о Вирхове как об ученом. Революционеры - только как о политике.
Но логика этого рассказа просто нарушится, если в нем сейчас появился бы Вирхов-политик, парламентский лидер интеллигентской, мелкобуржуазной партии, которая называлась то "партией прогрессистов", то "партией свободомыслящих". Человек он был деятельный, честный, страстный и очень гневно обличал канцлера Бисмарка с трибуны за милитаристскую политику и за стремление онемечить польское население силезских земель. А в борьбе он, увы, оказался непоследователен, как истый сын своего класса. Но все это - для серьезного повествования о его жизни, где можно пристально всмотреться и в нее, и в эпоху и по-настоящему понять, что к чему было.
А в нашей повести важно одно: важно здесь, каким он был в науке. И вот в науке-то Вирхов оказался истым революционером. И последовательным - что бы он там о себе ни говорил по этой части. (Сам-то он писал, что и в науке хочет не революции, а реформы.)
"...Только те, которым выпало на долю быть очевидцами произведенного Вирховым переворота в медицине,- те, которым пришлось начать изучение медицины, еще не слыша имени Вирхова,- только они могут вполне сознать всю важность и все значение Вирхова в развитии медицины, как науки",- это написал Сергей Петрович Боткин.
А Боткин в молодости учился у него. Он два года проработал в одной из лабораторий Вирховского института патологии в Берлине и ходил на все его лекции.
Кстати, тогда же и в той же лаборатории занимался физиологической химией Сеченов. Здесь и сложился сеченовский постулат: "Физиолог - это физико-химик, имеющий дело с явлениями животного организма". Непосредственно их работами руководил один из вирховских сподвижников - Эрнст Гоппе-Зейлер. Сеченов начинал исследовать физиологию алкогольного опьянения, а Боткин изучал механизм застоя крови в мелких сосудах.
А ведь сначала Боткин из Москвы направился было в Кенигсберг - в очень известную терапевтическую клинику, в которой намеревался совершенствоваться. Но в первом же разговоре с одним из тамошних врачей он услыхал о Вирхове, его идеях, его деятельности и так загорелся, что и чемоданов не стал распаковывать и тот час же отправился в Вюрцбург, где Вирхов профессорствовал. А когда считанные месяцы спустя Вирхова избрали па берлинскую кафедру, Боткин, не задумываясь, последовал за ним в Берлин.
Да как было не последовать! Он же с отрочества мечтал о настоящей науке - о физике, о математике, и врачом-то сделался случайно! Да, представьте себе, великий русский врач Боткин был медик поневоле - из-за того, что государь император Николай I ("Незабвенный"!) в 1850 году запретил принимать студентов на физико-математические факультеты - подальше от греха, от материализма. А медицинская наука тогдашнего Московского университета была сплошной зубрежкой "катехизисных истин", как говорил Боткин, то есть зубрежкой неизбежных анатомических описаний, категорических натурфилософских утверждений и рецептов лечения, как разумных, выношенных опытом, так и бредовых.
В объявленном курсе анатомии и гистологии не преподавалась гистология.
В курсе физиологии ничего не говорилось о работах школы Мюллера - о работах Гельмгольца например.
Терапевт Топоров приговаривал: "Зачем нам термометры да микроскопы, была бы сметка, мы и без них нажили Топоровку",- так профессор называл свое владение, два своих доходных дома на Малой Молчановке.
Патолог Полунин не произносил ни слова о Вирхове, чье имя уже начало греметь,- он свято исповедовал и проповедовал гуморальную теорию Карла Рокитанского, главы венской школы патологов.
...Впрочем, всего несколькими годами ранее Рокитанский безраздельно царил в мысли европейской медицины. (И Вирхов тоже учился по его учебнику и начинал свой путь в науке, свято веруя в каждое его слово.)
Описания видимых простым глазом изменений в органах при различных болезнях, сделанные Рокитанским, были тщательны и точны, недаром он обрел имя "отца патологической анатомии". Он еще ввел в медицину понятие "конституции" - типа телосложения, типа обмена веществ - и на этой основе высказал гипотезу о существовании наследственных предрасположений к различным недугам. Но он не умел - да никто еще не умел приготовлять и окрашивать гистологические препараты так, чтобы видеть не отдельные выдавленные компрессориумом клетки, а ткань, из клеток состоящую, и отличать детали обычного строения от изменений, вызванных патологическим процессом. А факты, им добытые, требовали объяснений. Ленивые умы могут обходиться без них. Рокитанский обойтись не мог и потому усовершенствовал на уровне науки 40-х годов XIX века учение, столь же древнее, как сама европейская медицина. Еще великий Гиппократ, сидючи двадцать три века назад под платаном, который в его родном городишке Косе и по сей день показывают туристам, пояснял ученикам, что здоровье и болезни зависят от четырех сил, содержащихся в четырех жидкостях тела - в крови, в лимфе, в светлой желчи и в черной желчи, каковые возникают соответственно в сердце, мозгу, печени и селезенке. "Кразы", гармоничные сочетания соков и сил - основа здоровья. "Дискразии", сиречь их порча и смешение, их дисгармония - причины болезней.
Новое естествознание отвергло постулаты Гиппократа. И гармонию с дисгармонией перенесли было с жидкого субстрата на более плотный - на нервную систему, на мозг или, как принято стало писать, "центральный нервный снаряд". Но пока и в этом было больше фантазий, чем фактов. И Рокитанский попытался вложить новый смысл в античные "кразы" и "дискразии": он говорил уже не об отвлеченной гармонии соков, а о содержании в крови и лимфе органических веществ, особом для каждого конституционального типа, и об изменениях их состава. Но биохимия еще не родилась - даже органическая химия делала самые первые шаги. И ему ничего не оставалось, как осторожно рассуждать о переходах хороших краз в неудачные из-за еще пока не улавливаемых химических сдвигов.
Конечно же, молодой тогда Боткин не мог сам низложить общепризнанное учение - ему и в голову это не приходило, и разве лишь при его пристрастии к точным наукам была у него какая-то подспудная неудовлетворенность ею. А тут еще сразу после университета он попал врачом в полевой лазарет в осажденный Севастополь, да под начало Пирогова, подвижника истинного знания - знания фактов! Так она и сложилась готовность к встрече с Вирховым, к учению у него - разрушителя старой медицины, той, что жила умозрением и эмпирически подбираемыми рецептами.
Вместо умозрений Вирхов выкладывал факты - точные описания микроскопических изменений, которые и составляют в данной ткани суть именно данного патологического процесса. Взамен эфемерных "дискразий" он преподносил реальные картины: вот клетки легкого, пораженного воспалением, а вот - клетки печени, измененной циррозом. Он ставил медицину на материальное основание, принуждая врачей мыслить биологически.
Кстати, Боткин, человек очень искренний, и не подумал скрывать в своих воспоминаниях, в какой мере он сам оказался неподготовленным к восприятию этой новой системы знаний:
"Он [Вирхов] читал о кровяном сегменте, распространяясь со свойственной ему обстоятельностью о различных морфологических видах,- писал Боткин,- Все эти мелкие подробности до такой степени казались мне случайными и ненужными, что я понять не мог, как можно терять время на такие пустяки".
Но ведь в середине-то прошлого века Сергею Петровичу негде было загодя получить таких общебиологических знаний и той практической подготовки по гистологии и физиологии, которыми в нашем XX веке два года нафаршировывают каждого студента-медика, чтобы снабдить его должным объемом исходной информации - теми понятиями и фактами, какие необходимы, дабы воспринять Вирховскую "целлюлярную патологию", ныне именуемую "патоморфологией" или "патогистологией". Гистологии, как помните, в Московском университете не обучали.
Тем-то и прекрасен Боткин, что сумел одолеть пропасть между устарелой и новой медициной, и усвоить не только факты, но методологию новой науки, чтобы всю свою жизнь блистательно лечить своих бесчисленных пациентов н создать оригинальную передовую школу русской клинической медицины, основанной на экспериментальной физиологии и экспериментальной патологии.
...Как бывший студент-медик пятидесятых годов XX столетия могу засвидетельствовать, что наука, которую некогда постигал у Вирхова Сергей Петрович, и сейчас тоже - одни из трех-четырех самых трудных и трудоемких предметов, какие только приходится усвоить будущему врачу. Конечно же, многое переменилось - сегодня "клеточная патология" становится уже "патологией молекулярной", биохимической. И объем ер информации на порядок, а может, и не на один отличается от того, какой Ширхов излагал в своих лекциях, в статьях и книгах своим слушателям и всему тогдашнему врачебному миру. Но принявшись за эту повесть, я взял в руки старенький томик его главного сочинения, изданный в 1871 году в городе Санкт-Петербурге в русском переводе к тому времени уже не в первый раз, и был поражен тем, сколько конкретных фактов, установленных Вирховым, и понятий, им сформулированных в середине прошлого века, сохранило в науке свою полнейшую, фундаментальную ценность.
...Он появился в анатомическом музее Мюллера студентом-первокурсником в тот год, когда музей покинул Шванн,- словно живая иллюстрация к нашей поговорке "свято место пусто не бывает". Правда, он был студентом не университета, а "Медико-хирургического института кайзера Фридриха-Вильгельма", предназначенного готовить военных врачей. Но отличие состояло лишь в том, что студенты института носили мундиры и жили в казарме на казенном коште, расплачиваясь за эти блага, существенные для молодого человека без особых доходов, прохождением курса знаменитой прусской муштры. Что до наук, то будущие армейские хирурги постигали их в университете на одной скамье с университетскими студентами у тех же университетских профессоров.
Вторым своим учителем после Мюллера, под чьим началом он сделал свою первую работу, Вирхов всегда называл терапевта Луку Шейнлейна, главу "естественно- исторической школы" в германской клинической медицине. Шейнлейн, эрудит и умница, стремился подвести под врачебное ремесло прочную научную основу анатомии, физиологии, гистологии и еще лишь зачинавшейся "физиологической химии", как немного позднее у нас, в России, это делали Пирогов и Боткин.
Молодых военных лекарей по обычаю прикомандировывали на год практиковаться в знаменитую берлинскую больницу "Charite" - "Милосердие". И Вирхов тоже был к ней прикомандирован, а затем и оставлен при клинической лаборатории, только что в "Charite" заведенной. Через два года его назначили прозектором при "патологоанатомическом институте" больницы. ...Видимо, он еще студентом показал себя изрядным задирой. Ведь, например, Шейнлейн, которому должны бы прийтись по вкусу и его способности, и его подготовленность, и его жажда докапываться экспериментом до "основы основ", встал на дыбы, когда Вирхова собрались назначать сначала врачом-лаборантом, а затем прозектором. А поскольку и первое и второе назначения состоялись, то клиника Шейнлейна, которая входила в состав "Charite", демонстративно не пользовалась услугами лаборанта Вирхова и прозектора Вирхова!.. Пройдет время, и Шейнлейн, старенький, благостный, живя на пенсионе в родном городишке Бамберге, будет скупать у тамошних книготорговцев все экземпляры поступающих к ним сочинений Вирхова и умиленно раздаривать их родным, знакомым и незнакомым, дабы они знали, какой ученик был у него!.. И как блестяще завершилось дело, некогда начатое им, Шейнлейном...
Но это будет потом. А в 1845-м на торжестве в честь юбилея Медико-хирургического института молодой прозектор Вирхов прочитал доклад "О необходимости и правильности медицины, обоснованной механической точкой зрения",- в лексиконе того времени слово "механический" соответствовало нынешнему "материалистический". Доклад вызвал невероятный скандал:
"Мои взгляды были настолько новы,- писал он отцу,- что поставили вверх ногами все, что было до сих пор известно. Старые военные врачи вылезли из кожи; то, что жизнь сконструирована механически, казалось им расшатывающим государственные устои и "антипрусским".
То есть "антипатриотичным".
Не прошло и года, как он обрушился с критикой на учебник Карла Рокитанского и всю гуморальную патологию. Теории Шванна шел седьмой год - она достигла "школьного возраста", и Вирхов повел ее в медицину. Но не как ученицу - как учительницу.
Он взялся "провести более правильным образом... мысль о целлюлярном свойстве всех жизненных процессов, физиологических и патологических, животных и растительных", чтобы снова возвратить умы к сознанию единства живой природы, но теперь уже не натурфилософского, а научно доказанного.
...Негели уже сделал свое дело в ботанике. И пока Кёлликер и Ремак - в эмбриологии и гистологии - кропотливо и упорно готовили окончательное крушение теории, ложно трактовавшей генетическую основу единства живого мира, Вирхов, как писал о нем Боткин, "ища истину путем исследования, уничтожил авторитеты школ и гипотез, дал способ оценки фактов и указал нам истинный путь исследования".
Боткин написал: "и указал нам", а значило это "всем ; медикам всех времен"! А второй уничтоженной гипотезой ? был милый старозаветный нервизм Альбрехта Галлера - он же "нейросолидаризм", он же "солидарная патология", * выводившая "от нервов" все беды, включая дизентерию и прочие "воспалительные горячки".
В. Вирхов всего лишь убедил серьезную пауку, что ей пе к лицу беспочвенные умствования "спекулятивных ' умов" - все равно, религиозные ли это умствования, какими изыскивают пребывание в "центральном нервном | снаряде" души, или же это умствования нагурфилософские, которыми вычисляют в нем же "анатомический центр" все той же жизни. Либо же, наконец, это физиологические фантазии вроде "клеевой теории" поистине искрометного Галлера. Сквозь оптику XVIII века клетки мозга видны не были, и все вещество мозга представлялось ; ему монолитным: и раз так, то мозг всегда действует на ; все органы тела одновременно, в чем и коренится полней- t шее единство организма.
Вирхов вежливо подсовывал под нос коллегам микроскоп, рекомендуя своими глазами убедиться в строении тканей, здоровых и больных, мимоходом поясняя, что ради обоих этих учений, нужно насиловать факты, анатомические и физиологические, и заключал так:
"...По моим понятиям, оба эти учения односторонни, не говоря ложны, ибо ложны они только вследствие своей исключительности... Надобно вспомнить, что рядом с сосудами и кровью, рядом с нервами и центральными снарядами есть еще и другие части, представляющие нечто более, чем косный субстрат, на котором нервы и кровь упражняют свое влияние".
Что же до предполагаемого особого единства центральной нервной системы, замечал он, то достаточно поработать скальпелем, и сразу станет видно, что она тоже состоит из множества относительно равнозначных частей, к тому же в элементарной своей структуре построенных по такому же плану, как и все остальные органы - из клеток! И потому дело-то совсем не в мифическом анатомическом единстве, а вот в чем:
"Каждая особая деятельность имеет здесь (то есть в центральной нервной системе) свои особые элементарные ячеистые органы, и каждая проводится своими особыми, строго ей предписанными путями".
Никому из мыслящих физиологов его времени - ни Клоду Бернару, ни Гельмгольцу, ни Людвигу, ни Гейденгайну, ни Сеченову, ни его, Вирхова, ученикам Боткину и Циону, ни ученику этих его учеников Павлову - и в голову не приходило той дурной мысли, какая со временем объявилась у некоторых поздних потомков, не удосужившихся прочесть "Целлюлярнуго патологию" не только в подлиннике, а хотя бы в старом скверном переводе доктора И. Чацкина: будто бы Вирхов решил отвергнуть единство организма или работу центральной нервной системы как машины, связующей существо с внешним миром и регулирующей его ответы на любые уклонения и требования упомянутого мира!..
Строгий исследователь-микроскопист и мудрый мыслитель представлял в распоряжение коллег свои экспериментальные факты и выводы, не претендуя пи на что иное, как на их профессиональное обсуждение. Ведь он, Вирхов, на каждом ученом собрании более всего стремился поаккуратней затеряться в толпе - при его ординарной для тех дней профессорской бороде и подслеповатости это ему удавалось ровно до момента, пока кто-то его не узнавал и не принимался разглашать его стыдливого инкогнито. Ну вот не был он по складу римским первосвященником и не считал свои книги буллами и энцикликами, обязательными для каждого научно верующего! Просто представленные им доказательства оказались настолько неотразимы, что его факты и мысли сразу вошли в новое физиологическое мироощущение, а старец Карл Рокитанский самолично, публично и без принуждения отрекся от всех своих "краз" и "дискразии", признав великую правоту нарождавшейся научной медицины. (Но московский патолог Полунин объявил этот поступок Рокитанского ужасной ошибкой и остался при прежней теории.)
Количество работы, выполненной Вирховым за свою жизнь, как ни была она долга,- а прожил он восемьдесят два года,- изумляет!
А он же не был "первопроходцем". Ведь начало "целлюлярной патологии" положил его учитель Иоганнес Мюллер - своей работой о доброкачественной опухоли грудной железы, которую потом "подарил" по привычке очередному новому ученику - Вирхову. И тогда же, в начале сороковых, Мюллер довольно подробно описал картину клеточных изменений при воспалительных процессах. Но лавина вирховского труда засыпала саму память о работах учителя - безо всякого на это желания Вирхова.
...Он изучал микроскопическую картину клеточных изменений ткани при тромбофлебите - воспалении и закупорке вен, и при туберкулезных поражениях. И при сифилисе, проказе и эндокардите. И при трихинеллезе - нередкой в те годы болезни (ее вызывали мелкие глисты свиней, ими заражались, если мясо было плохо прожарено) .
Он открыл "неспецифическое поражение" клеток паренхиматозных органов: "амилоидное перерождение" печени, почек, селезенки - последствие хронических интоксикаций и воспалительных процессов, длительно текущих в других органах тела. И он же описал картину изменений клеток крови и костного мозга при лейкозе - те самые различные "морфологические виды кровяного сегмента", которые Боткину так не понравились поначалу.
Было бы преступлением не сказать еще об одном важном цикле его исследований, завершенных им к концу шестидесятых годов: Вирхов изучил клеточное строение многих видов злокачественных опухолей. Дал первую их научную классификацию. И сформулировал первые представления о злокачественном росте - о происхождении опухолевых клеток из нормальных вследствие неких произошедших в них изменений. Суть злокачественного роста, определил он, в том, что опухолевая ткань развивается, во-первых, иноместно - не там, где данный вид ткани должен расти; во-вторых, иновременно, то есть не тогда, когда этот вид ткани должен расти по плану развития организма; в-третьих, иномерно, то есть нарушая характер строения, подобающего этой ткани, и пределы, подобающие ей в теле. ("Пределы генетической программы", сказали бы теперь.) Вот так он и положил начало будущей экспериментальной онкологии, по сей день решающей все ту же, что и он, "задачку": почему же и как же все это получается... Самую трудную в биологии и медицине.
От автора. Одному из бесчисленного множества вопросов этой самой трудной задачи медицины - эпидемиологии рака, детищу уже нашего времени, посвятила свою жизнь моя мать, Валентина Ивановна Ферштудт. Ее работы были негромки - их знают только специалисты, но они их ценят. Она была настоящий исследователь - жестоко строгий к своим фактам и своим оценкам. И она была исследователь одержимый - для себя ей нужно было одно: еще и еще что-то сделать, чтоб оберечь людей от беды. Этим она жила даже после того, как ее свалила болезнь.
Мама умерла, когда я начал писать эту главу. И книгу я посвящаю ее памяти.
...Вернемся в XIX век. Еще в самые и самые бурные годы работы вокруг Вирхова быстро сформировался кружок молодых адептов новой медицины, энергичных, работящих. Но их "антипатриотические" работы не находили себе издателей. И тогда после немалых уговоров брат его друга и ближайшего сподвижника Бенно Рейнгардта - Георг, книготорговец, согласился рискнуть своими деньгами, и Вирхов с Бенно Рейнгардтом основали "Архив патологической анатомии, физиологии и клинической медицины" - попроще "Вирховский архив" - так по сей день называют журнал, который за считанные месяцы стал самым громким, самым строгим, самым интересным и почитаемым изданием в тогдашней медицинской науке. И некоторые сочинения, появившиеся на страницах "Архива", предназначенных под сухую науку, оказались начиненными политическими зарядами немалой мощи.
Вот, например, в начале 1848 года министр просвещения командировал Вирхова вместе с неким важным чиновником в Силезию, где вспыхнул тиф. Из поездки надлежало привезти казенный отчет о числе заболевших и умерших и еще проанализировать в нем причины эпидемии с позиций новейшей медицинской науки.
Министр не ведал, какую грозу он накличет. Вирхов создал гневное, публицистически острое исследование о потрясающей нищете и темноте пролетариев и крестьян Верхней Силезии, об их эксплуатации и государством, и капиталистами, о диких общественных и экономических условиях, порождающих болезни и голод:
"Медицина незаметно завела нас в социальную область,- писал он,- и привела нас к необходимости самим теперь столкнуться с великими вопросами нашего времени. Поймите, дело не идет уже более о лечении того или другого тифозного больного!.."
Или в другой своей статье он заявил:
"Врачи - естественные защитники бедных, и социальный вопрос падает в значительной своей степени на их юриспруденцию ".
Не будь это в 1848 году - на гребне революционных событий, в эпоху смелых веяний,- и неведомо, смог бы или не смог Вирхов доложить свой отчет в Берлинском научном медицинском обществе и увидели бы его силезские очерки свет даже в им самим издаваемом журнале или не увидели бы. Правда, обнажив "социальные язвы", доктор Вирхов предлагал не хирургические, а "терапевтические меры" - отмену феодальных привилегий, облегчение бремени налогов, введение самоуправления провинций и всех общин - "полной неограниченной демократии". Призывал создать системы полноценного здравоохранения и народного образования, свободного от влияния малограмотных сельских ксендзов. И насаждать "улучшение земледелия", то есть обучение крестьян более разумным приемам агротехники, чем те, которыми они пользовались со времен царя Гороха. И обеспечить право рабочих на труд и полноценную его оплату, и ограничить прибыли капиталистов и помещиков. Но все это - только путем реформ, а не революций,- как только и мыслила это себе тогдашняя радикальная буржуазия.
И все же вирховские очерки - он озаглавил их в журнале на ученый лад "Сообщения о господствующей в I Верхней Силезии эпидемии тифа" - были справедливо В восприняты как обвинительный акт и социальному строю В и самому прусскому государству.
Это было первое, но не единственное его громкое политическое выступление тех лет. Но ни оно, ни другие не В были ему забыты прусским правительством. Вирхова - оп В только что женился - выселили из казенной квартиры В при "Charite", и затем вовсе выставили с прозекторской В должности. А неказенной службы для патологоанатома 1 в тогдашнем Берлине быть не могло.
Однако тотчас же его пригласил на кафедру Вюрцбургский университет, который был в другом государстве I тогдашней "лоскутной" Германии - в Баварском королевстве. И семь лет, проведенные в Вюрцбурге, оказались для его научного творчества непрерывной "болдинской осенью" - в две с половиной тысячи дней. Именно исследования этих лет и позволили ему создать стройную концепцию целлюлярной патологии, которая не только стала фундаментом научной медицины второй половины XIX столетия и последующего - XX-го, но еще и была завершением клеточной теории.
Вирхов свел воедино все многочисленные, но все же разрозненные, разбросанные по тогдашней специальной литературе факты и показал, что после Шванна и Шлейдена за двадцать лет не было получено ни одного четкого Доказательства возникновения клеток из неклеточного вещества. Причем он сделал широчайшее в биологии обобщение, представив его не как собственный вывод, а как переворот во взглядах, уже свершившийся в науке: "Он вылился в общее правило: что никакое развитие не начинается de novo и что, следовательно, в истории развития отдельных частей организма произвольное самозарождение (generatio aequivoca) точно так же должно быть отвергнуто, как и для развития целых организмов". (Внизу этой страницы была напечатана сноска: "Новейшую попытку Пуше (Pouchet) восстановить по крайней мере по отношению к грибам и инфузориям учение о произвольном зарождении можно считать опровергнутою превосходными опытами Пастера (Pasteur)".)
И далее в своей знаменитой книге он не без насмешливости подвел итог исканиям и спорам:
"Как не допускаем мы теперь, чтобы *из кишечной слизи могли образоваться глисты, из продуктов гниения и разложения животных или растений - инфузория, гриб или водоросль, так же мало в области физиологической и патологической гистологии мы допускаем, чтобы из какого бы то ни было вещества неячеистого - образовалась ячейка. Везде, где последняя образуется, ей должна предшествовать другая ячейка (omnis cellula e cellula), подобно тому, как животное может происходить только от животного, растение - только от растения". (Увы, переводчик Вирхова упорно предпочитал слову "клетка" менее употребительный даже в то время термин "ячейка".)
И любой процесс, протекающий в клетке, утверждал Вирхов, это процесс физико-химический. Но настоящая жизнедеятельность исходит только от клетки как целого, и клетка остается деятельной только пока она - самостоятельный и цельный элемент.
Ясно оценивая и возможную сложность и значимость физиологии клетки как индивидуума, Вирхов понял, что физиологию организма нельзя составить как простую сумму индивидуальных жизнедеятельностей слагающих его единиц, а ведь именно это и утверждалось со времени Мейена, Шлейдена и Шванна.
Эти индивидуальные деятельности клеток в жизни составляемых ими тканей, органов и организма - он ощутил это - должны находиться в некой системе взаимосвязей, взаимозависимостей или, говоря по-современному, в интеграции, создающей в итоге качественно новый результат.
"...Всякое живое тело,- писал он в том своем главном труде,- представляет устройство, подобное общественному, представляет общественный организм, в котором множество отдельных существований поставлены в зависимость друг от друга, но так, однако же, что каждое из них имеет свою особую деятельность; и если побуждение к этой деятельности оно получает от других частей, зато самую работу свою оно совершает собственными силами".
Прибавим, что в середине XIX века само слово "организм", на каком бы языке оно ни произносилось, непременно несло в себе значение "стройное целое", то есть единая система, и оно уже не требовало разъяснений. Эта логическая и очень логичная модель, как легко увидеть, вчитываясь в текст, оценивала диалектику взаимозависимости целого и его функциональных элементарных ячеек- клеток, совершающих свою работу собственными силами, но в координации с другими, но по побуждениям других частей .системы.
И, однако, на протяжении многих лет вирховская идея "организма-общества", увы, отвергалась даже некоторыми серьезными биологами. Ни в его время, ни без малого все последующее столетие наука не знала языка теории систем - именно поэтому модель толковалась произвольно. И Вирхову приписывали, что он будто бы отвергал представление о целостности организма и вообще недопустимо смешивал разнородные понятия.
Но раскрыв первоисточник, подлинный текст Вирхова, убеждаешься, насколько мысль истинного естествоиспытателя способна опережать возможности эксперимента, воистину освещая не его рабочий стол, а мир.
Физиология клеток и многоклеточных систем и родившаяся в те же годы "физиологическая химия" еще столетие будут создавать и совершенствовать орудия познания и открывать ими новые и новые факты. А потом они произведут на свет новую науку - молекулярную биологию, чтобы в особо тонких экспериментах ощупать нити, связывающие "множества отдельных существований", их материальные "зависимости друг от друга", из которых слагается стройное целое организма.
"...Я счел необходимым, не довольствуясь разделением организма на органы,- продолжал ту свою мысль Вирхов,- а органов на ткани, разложить еще эти последние на округи или территории клеточек,.." - и предупредительно пояснил, что к такому выводу он приведен не просто идеей, моделью клеточного "общества", "государства", "федерации", а главнее всего - наблюдениями над тем, как распространяются в органах болезненные поражения. Ему, патологу, не раз приходилось убеждаться, что в ткани, состоявшей из плотно прилегающих друг к другу клеток, патологический процесс способен избирательно захватывать или оставлять нетронутыми отдельные группы клеток. И даже "отдельная клеточка может идти своим особым путем, претерпевая свои особые изменения, не вовлекая в свою судьбу соседние с нею клетки". А в других случаях была очевидна строгая взаимосвязь изменений клеточных элементов "округа" и межклеточного вещества - тоже.
Да иначе и быть не могло, поскольку любая система куда быстрее становится ясной не тогда, когда она работает без сучка и задоринки, а когда она нарушена.
Ученые прошлого были не глупее нас и очень серьезно работали, а потому их строгая научная мысль смотрела так далеко! Вот как в этой модели Вирхова.
Или как в предположениях Фридриха Мишера, в в 1869-м открывшего особое вещество клеточных ядер - "нуклеины", нуклеиновые кислоты. Их изучению он отдал всю жизнь. Почти ничего не публиковал, судя по всему оттого, что экспериментальная техника конца столетия не позволяла добыть решительных доказательств в пользу или против его гипотезы, в истинности которой он был предельно убежден.
...Гипотезы о том, что либо сами открытые им "нуклеины", либо белки, но непременно ядерные, предопределяют жизнедеятельность клетки и саму наследственность.
Чем? Да обилием возможных стереохимических разновидностей - изомеров одних и тех же веществ! И более - что сами стереохимические различия могут исполнять функции химического наследственного кода! Пожалуйста:
"В огромных молекулах альбуминоподобных соединений или в еще более сложно устроенных молекулах гемоглобина множество асимметричных атомов углерода могут обусловить возникновение гигантского многообразия стереоизомеров. С их помощью мы можем выразить все биохимическое многообразие наследственных признаков,- выделим конец этой фразы,- подобно тому, как при помощи двадцати четырех или тридцати букв алфавита мы можем составлять слова и выражать мысль на любом языке..."
А ведь в те дни истинным достижением была работа его друга, другого замечательного биохимика Альберта Косселя, представившая ДНК - дезоксирибонуклеиновую кислоту, знаменитую "двойную спираль" наших дней, формулой C40H59N14O22 ⋅ 2Р2О5! И не было средств, которые заставили бы, помогли бы ощутить всю сложность и огромность этих макромолекул-генов! Кроме одного -? логической модели, к какой Мишер и прибег.
Такой она казалась безумной, что рассказать про нее Мишер отважился не в статье, а только в письме и не просто коллеге, замечательному гистологу Вильгельму Гису, а своему родному и любимому дяде, которым и был ему Гис. И вот поди ж ты!..
И какой силой мысли обладал Николай Кольцов, ничего, как и весь ученый мир, не знавший об этой гипотезе, похороненной в семейной переписке, когда через сорок лет сформулировал четвертый великий постулат биологии: "Omnis molecula e molecula" - "Каждая молекула - от молекулы"!
И ведь для науки будущего оказалось несущественным, что великий русский биолог, основатель советской генетики, считал гены белковыми молекулами. Ну и что же! Тогдашняя биохимия видела нуклеиновые кислоты веществами столь примитивными, что в воображении они. "годились" лишь на элементы "каркаса хромосом". Уточнить, каков он, субстрат гена - белковый или нуклеиновый,- дело экспериментальной техники, почтенное и уважаемое. Но вот вычислить, что частице соответствует античастица, признаку - ген, а еще понять, подобно Кольцову, что ген самовоспроизводит себя, как матрица, на которой "оттискивается", копируется новая молекула, это значит осветить дорогу в будущее, "суметь возжечь факел"! Ведь именно с формулы Кольцова и начались молекулярная биология, молекулярная генетика.
Но эти науки столь сложны и обширны, что для повествования про них просто нужна другая книга. А эту заключим двумя рассказами об одной проблеме - о поисках, шедших восемь десятков лет. Мало-помалу в них удалось подсмотреть механику и логику взаимодействий величайшего множества клеток в сложнейшей системе По имени организм.
|
ПОИСК:
|
© GENETIKU.RU, 2013-2022
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://genetiku.ru/ 'Генетика'
При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://genetiku.ru/ 'Генетика'